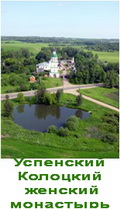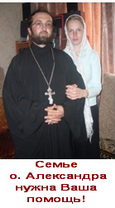–û–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É. –ù–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ϋ–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ï–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄî –Ε–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–≥–Ψ-¬≠―²–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Β–Β –±―΄―²–Η―è –Η –Ω―É―²―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è. –û–Ϋ–Α ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Α–Κ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ. –‰ –Κ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Β–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β―² –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Α –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄? –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Μ―é–±–Η―²―¨. –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α –Μ―é–±–≤–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α –¥–Α–Ε–Β –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―ç–≥–Ψ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–Β–±―è–Μ―é–±–Η–≤–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β. –ë–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ –Η –Ϋ–Β―É―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―à–Β–Ϋ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–Φ. –û―²―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ε–Η–≤–Β―² –Ψ–Ϋ–Α –≤ –Ϋ–Β―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ.
–™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β, –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –Κ –Φ―É–Ε―¨―è–Φ: –€―É–Ε―¨―è, –Μ―é–±–Η―²–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ε–Β–Ϋ (–ï―³. 5, 25). –‰ –¥–Α–Μ–Β–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―² ―ç―²–Ψ. –•–Β–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ –Ψ –Μ―é–±–≤–Η –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –Ϋ–Β –Α–¥―Ä–Β―¹―É–Β―² –Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―É. –€―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι¬≠―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―² ―¹–Β–±―è –Κ –Μ―é–±–≤–Η, –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ–Α. –£ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ï–Ι, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–±―΄―²―¨ –Ε–Η–≤―΄–Φ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Μ―é–±–≤–Η¬Μ.
–£ –±―Ä–Α–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Β –Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ―É–Β―²―¹―è –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–Φ –¥–Α–Β―²―¹―è ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ. –ö–Α–Κ –Ε–Β –±―΄―²―¨ ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö–Α –Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α? –ù–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é, –Κ–Α–Κ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅―É, –Κ―Ä–Α―Ö –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥ –Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£–Ψ –≤―¹–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η βÄî –±–Μ–Α–≥–Α―è –≤–Ψ–Μ―è –ë–Ψ–Ε–Η―è. –¦―é–±–Ψ–Β –Ϋ–Α―à–Β –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β, –Α –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤. –‰, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η –Η–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β, ―΅–Β–Φ ―¹–Β–Φ―¨―è. –û–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–Φ –Β–Β –Μ―é–±–≤–Η –Η –Ω–Ψ–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Γ–Α–Φ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨. –£ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Κ―É–Ω–Η–Μ–Α –Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ü–Β–Ϋ―É ―¹–Ψ―¹―É–¥ ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –Η, ―Ä–Α–Ζ–±–Η–≤ –Β–≥–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Η–Μ–Α –Φ–Η―Ä–Ψ –Ϋ–Α –‰–Η―¹―É―¹–Α. –ù–Β–Κ―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Ψ–Ω―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ―É―é, –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―²―Ä–Α―²―É –¥–Β–Ϋ–Β–≥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Η―â–Η–Φ. –ù–Ψ –‰–Η―¹―É―¹ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: –Ψ―¹―²–Α–≤―¨―²–Β –Β–Β; ―΅―²–Ψ –Β–Β ―¹–Φ―É―â–Α–Β―²–Β? –û–Ϋ–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –¥–Μ―è –€–Β–Ϋ―è. –‰–±–Ψ –Ϋ–Η―â–Η―Ö –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–Φ–Β–Β―²–Β ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ―é –Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Η–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨; –Α –€–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–Φ–Β–Β―²–Β. βÄΠ –‰―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –≤–Α–Φ: –≥–¥–Β –Ϋ–Η –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Ψ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β ―¹–Η–Β –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―², –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Β–Β, –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α (–€–Κ. 14, 6¬≠9). –‰ –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–≤–Α ―²―΄―¹―è―΅–Β–Μ–Β―²–Η―è ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α –Ϋ–Α–Ζ–Η–¥–Α―é―²―¹―è –Β–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Ψ–Φ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²―É –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α ―²–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –ï–≥–Ψ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –‰ –Β―¹–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Η –Β―¹―²―¨. –û–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Η–Φ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ω―Ä–Ψ―â–Β. –ù–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ―è―è –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¹―è –Ψ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β–Φ, –Κ–Α–Κ ―É–≥–Ψ–¥–Η―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―É, βÄΠ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ―è―è –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¹―è –Ψ –Φ–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―É–≥–Ψ–¥–Η―²―¨ –Φ―É–Ε―É (1 –ö–Ψ―Ä. 7, 34). –ù–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –¥–Β–Μ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –Η –Ω―Ä–Β–Φ―É–¥―Ä―΄–Φ. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –±–Β–Ζ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ. –Θ–±–Ψ―Ä–Κ–Α ―Ö―Ä–Α–Φ–Α, –Ω–Ψ―΅–Η–Ϋ–Κ–Α –Η–Μ–Η ―à–Η―²―¨–Β –Ψ–±–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α, –Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–≤–Α―é―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî ―Ü–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Η, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―΅–Α –≤–Β―â–Β–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –Ϋ―É–Ε–¥–Α―é―â–Η–Φ―¹―è, ―¹―²–Β–Ϋ–≥–Α–Ζ–Β―²–Α –Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―¹―²–Ψ–Κ, –±―É―Ö–≥–Α–Μ―²–Β―Ä–Η―è. –ö–Μ–Η―Ä–Ψ―¹ ―²–Ψ–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –ü―Ä–Ψ―¹―³–Ψ―Ä―΄, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ–Α―Ö. –ö―²–Ψ –Μ―é–±–Η―² –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Η ―²―Ä―É–¥―è―²―¹―è. –ê ―²―Ä―É–¥ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β, –¥–Α–Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ βÄî ―Ä–Α–¥–Η –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ –Η –Ψ–±―â–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α, –Η –Ψ–±―â–Β–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Κ–Α–Κ –±―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Α–±―΄ –Η ―Ö―É–¥―΄ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―¨, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β¬Μ βÄî –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹.
–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –≠―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Β–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄî –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É. –‰ –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Φ–Β―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι βÄî ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è. –‰ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α –†–Α―Ö–Η–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² –¥–Β―²–Β–Ι –‰–Α–Κ–Ψ–≤―ÉβÄΠ, –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –‰–Α–Κ–Ψ–≤―É: –¥–Α–Ι –Φ–Ϋ–Β –¥–Β―²–Β–Ι, –Α –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ, ―è ―É–Φ–Η―Ä–Α―é (–ë―΄―². 30, 1). –ù–Ψ –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Β–Ι –Κ –≤―΄―¹―à–Β–Ι ―Ü–Β–Μ–Η. –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η–Φ–Β―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–≤ –Η―Ö –Ω–Ψ –Ω–Μ–Ψ―²–Η. –î–Ψ–±―Ä―΄–Β –¥–Β–Μ–Α, –¥–Β–Μ–Α –Φ–Η–Μ–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Η―è, –Μ―é–±–≤–Η –Κ –ë–Ψ–≥―É –Η –Μ―é–¥―è–Φ βÄî ―²–Ψ–Ε–Β –Β–Β –¥–Β―²–Η. –€–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β–Φ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η–Μ–Α –Φ―É–Ε–Α, ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –¥–Β―²–Β–Ι. –ù–Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Β¬≠―É–¥–Α―΅–Ϋ–Α―è –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Α –¥–Β―²―¹–Κ―É―é ―²–Β–Φ―É. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨. –£ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ―É–Ε ―É―à–Β–Μ –Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –†–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ. –Γ―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ–Α –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―É, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ. –ê –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Η –≤―¹―é –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β –¥–Α–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Η―²―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–¥–Α–Μ–Α ―΅―É–Ε–Η–Φ –¥–Β―²―è–Φ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η–Ζ –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤–Α. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, –Β–Ι –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Β–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Β. –ù–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–±―è―² –Η–Ζ –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Α –Η―Ö –Ϋ–Α ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –Θ–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Η, –Φ–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –¥–Β―²–Η, ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β–Β. –ù–Β ―à―É–Φ–Β–Μ–Η, ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –‰ ―ç―²–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι! –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―² –¥–Α–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –£–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η–Κ, –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―É―Ä–Ψ–Κ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ―΄–≤–Α―²―¨ –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι. –½–Α―²–Β–Φ βÄî –Κ―É―Ä―¹―΄ –Κ–Α―²–Β―Ö–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –î–Α –Β―â–Β –Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α¬Μ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Α―²―Ä. –†–Α–Ζ–≤–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η ―¹–Η–Μ ―É ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄? –û–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α, –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Α: ―É –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β―²–Β–Ι, –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Η ―É –Η–Φ–Β―é―â–Β–Ι –Φ―É–Ε–Α (–™–Α–Μ. 4, 27).
–û–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Β. –ù–Β –≤―¹–Β–Φ ―É–¥–Α–Β―²―¹―è –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–¥―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Ι ―¹―²–Ψ–Η―² –Ζ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–±–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é: ¬Ϊ–· ―²–Ψ–Ε–Β –Η–Φ–Β―é –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β!¬Μ –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α–Φ–Η –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α―é―² ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ¬Μ –Ϋ–Α –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―É. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Η–Μ–Η –±–Μ―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Η―à―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Β –Ϋ–Α –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è βÄî –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β ¬Ϊ–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β¬Μ βÄî –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Β―² ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β ―΅―É–Ε–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―²―Ü–Α, –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Κ–Ψ–Μ–¥―É–Ϋ–Α–Φ –Η –Φ–Α–≥–Η–Η. –‰ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ–≤–Ψ –Η–Φ―è –Μ―é–±–≤–Η¬Μ! –£–Ψ–Μ―à–Β–±–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ, –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≥–Μ―É–Ω–Ψ―¹―²―¨. –‰ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Β–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Μ―é–±–≤–Η –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι! –ö–Α–Κ-¬≠―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Α―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―É, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –±―Ä–Α–Κ. –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Η –Ω–Ψ–≤–Β–Ϋ―΅–Α―²―¨. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η―Ö ―¹–Ψ―é–Ζ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω―΄–Φ, –Α ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―¹–Κ–Ψ―Ä―΄–Φ, ―΅―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Η―Ö –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–ê ―è –Ω―Ä–Ψ―à―É –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―²―¨. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –≤―΄ –Ϋ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―²–Β, –Φ―΄ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –Ω–Ψ¬≠―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É. –ë–Β–Ζ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±―Ä–Α–Κ–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η –Ω–Ψ –Ω–Μ–Ψ―²–Η (1 –ö–Ψ―Ä. 7, 28). –‰ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η, –Κ–Α–Κ –Μ―é–¥–Η, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Η–Β –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ. –ê ¬Ϊ–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β¬Μ –±―΄–≤―à–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ (–¥–Α–Ι-¬≠―²–Ψ –ë–Ψ–≥) –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―² –Β–Β –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ.
–Γ–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―É–¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι. –û–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Η–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α. –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η, –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―΅–Α―â–Β ―É–Ϋ–Ψ―¹―è―² –Φ―É–Ε―¹–Κ–Η–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―΅–Β–Φ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β. –û―²―¹―é–¥–Α –Η –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ–Α –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ–Β –≤–¥–Ψ–≤―¹―²–≤–Ψ. –‰ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Φ―É–¥―Ä―΄–Β –Ε–Β–Ϋ―΄ –Η –¥–Β–≤–Η―Ü―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β ―É–Φ–Β–Μ–Η ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Ψ–±–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Α –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―¹–Β–±–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Β–Φ–Ψ–Β –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―ç―²–Η–Φ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―à–Α–≥ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η¬Μ. –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Α βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è ―É–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η βÄî –Μ―é–±–≤–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι. –ë–Β―¹–Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Η–≤–Α―è –Β–Β –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ. –‰ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Γ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―² –Β–≥–Ψ –Κ –Γ–Β–±–Β, –Η–±–Ψ –ë–Ψ–≥ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Η―Ö –≤–≤–Ψ–¥–Η―² –≤ –¥–Ψ–Φ (–ü―¹. 67, 7).
–ü―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤
|
–™–¦–Θ–Ξ–ê–· –û–Ϋ–Α –≤–Ψ―à–Μ–Α, –Ω–Ψ―²―É–Ω–Η–≤ –≤–Ζ–Ψ―Ä,
–ü―Ä–Ψ―¹―²–Α―è, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α.
–½–Α–±―΄–Μ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä
–Ξ―É–¥–Ψ―é –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ―é ―Ä―É―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι. –· –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Β–Ι –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ:
¬Ϊ–½–Α–Κ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β ―ç―²–Η –¥–≤–Β―Ä–Η!¬Μ
–Γ–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–≤ ―¹–Ψ –Μ–±–Α –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ,
–ü―Ä–Η―¹–Β–Μ–Α, –≤–Ζ–Ψ―Ä ―¹–≤–Ψ–Ι –≤ ―¹―²–Β–Ϋ―É –≤–Ω–Β―Ä–Η–≤. –· ―²–Η―Ö–Ψ ―¹–Ζ–Α–¥–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ
–‰ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Φ–Ψ―΅–Η,
–û–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–≤ –Η –Ω–Μ–Β―΅–Ψ–Φ,
–Γ–Η–¥–Β–Μ–Α –≤―¹–Β –Ω–Ψ―²―É–Ω–Η–≤ –Ψ―΅–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β ―è―Ä–Ψ―¹―²―¨ –≤–Β―Ä―Ö –≤–Ζ―è–Μ–Α,
–‰ ―è –Β–Β ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ,
–û–Ϋ–Α –≤–¥―Ä―É–≥ –≤–Ζ–Ψ―Ä ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Α,
–ù–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η–Ι, ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι. –Δ–Ψ―² –≤–Ζ–Ψ―Ä –Φ–Ϋ–Β –¥―É―à―É –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Α–Μ,
–‰ ―è –≤―¹–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―¹―²–Η, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è!
–ü―É―¹―²―¨ –ë–Ψ–≥ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―² –Φ–Ϋ–Β, ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ,
–î–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α –≤–Β–¥―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –≥–Μ―É―Ö–Α―è!¬Μ –ù–Β ―²–Α–Κ –Μ–Η –Φ―΄ –Κ―Ä–Η―΅–Η–Φ –Ϋ–Α ―²–Β―Ö,
–ö―²–Ψ –≥–Μ―É―Ö –Κ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Β―²–Α–Φ?
–ö―Ä–Η―΅–Η–Φ ―΅―²–Ψ ―²–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ –≥―Ä–Β―Ö,
–û―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η―¹―Ü–Β–Μ―è–Μ,
–Γ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –≥–Η―Ä–Η,
–ê –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ
–•–Η―²―¨ ―¹–≤―è―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―¨–Β –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Μ
–î–Μ―è –≤―¹–Β―Ö, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Μ–Η –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥―É –≤–Ω–Η―à–Β―²?
–û–Ϋ –Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ,
–ù–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Κ―²–Ψ ―¹–Μ―É―Ö –Η–Φ–Β–Β―², βÄî –Γ–¦–Ϊ–®–‰–Δ!
–£–Β―Ä–Α –ö―É―à–Ϋ–Η―Ä
|
–ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ: –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Ψ―² –≥―Ä–Β―Ö–Α 
–Λ–Ψ―²–Ψ –‰–Δ–ê–†-–Δ–ê–Γ–Γ –€–û–Γ–ö–£–ê, 21 –Η―é–Μ―è. /–ö–Ψ―Ä―Ä. –‰–Δ–ê–†-–Δ–ê–Γ–Γ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α –€–Α–≥–Α/. –£ ―¹–Η–Μ–Α―Ö –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≥―Ä–Β―Ö –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Κ–Α–Κ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η –≤―¹–Β―è –†―É―¹–Η –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Κ –Ω–Α―¹―²–≤–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –ö–Α–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄ "–ö–Α–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è". "–£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η: –≤ ―Ä―è–¥–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –≤―΄–±–Ψ―Ä –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É –≥―Ä–Β―Ö–Α ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ", - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Β, –Κ―²–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹―É ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η, "–±–Ψ―Ä―é―²―¹―è ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η - –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α―é―²―¹―è ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―è–Φ", - –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ –Ψ–Ϋ. –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Η–Φ―É―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ι, –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é –Μ―é–¥–Β–Ι, ―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Ψ–≤. "–Δ–Α–Φ, –≥–¥–Β –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –≥―Ä–Β―Ö - ―²–Α–Φ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨, ―²–Α–Φ ―²–Β―Ä―Ä–Ψ―Ä, ―²–Α–Φ –¥–Η–Κ―²–Α―²―É―Ä–Α", –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β, –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η–Ϋ–Κ―²–Α–Φ. –£–Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Α –¥–Η–Κ―²–Α―²―É―Ä–Α –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ―è–Β―²―¹―è: –Κ–Α–Κ –¥–Η–Κ―²–Α―²―É―Ä–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η–Μ–Η –Ω–Α―Ä―²–Η–Η, –Η–Μ–Η –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Η–Μ–Η ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤, –Η–Μ–Η ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―è ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, "―ç―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Α–Ω–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Η–Φ–Ω―²–Ψ–Φ". "–†–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β - ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Β―² ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β", - ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ. –ù–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤, –Κ–Α–Κ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Α ―΅―²–Η–Φ–Α―è ―¹–≤―è―²―΄–Ϋ―è - –ö–Α–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –€–Α―²–Β―Ä–Η, –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ ―É–Ω–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η –≤ –Γ–Φ―É―²–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Η –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –û–Ϋ –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹―É–≥―É–±–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ö–Α–Ζ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ι "―Ä–Α–±―¹―²–≤–Α –≥―Ä–Β―Ö–Α", –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―², –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ, –Κ "―¹–Α–Φ–Ψ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α".
|
–ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Β–±―É―é―² ―É–±―Ä–Α―²―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―É –Ψ―² ―¹―²–Β–Ϋ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Β-–Γ–Β―Ä–≥–Η–Β–≤–Ψ–Ι –Μ–Α–≤―Ä―΄  –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Β-–Γ–Β―Ä–≥–Η–Β–≤–Α –Μ–Α–≤―Ä–Α. –°―Ä–Η–Ι –Γ–Ψ–Φ–Ψ–≤/–†–‰–ê –ù–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Β-–Γ–Β―Ä–≥–Η–Β–≤–Α –Μ–Α–≤―Ä–Α. –°―Ä–Η–Ι –Γ–Ψ–Φ–Ψ–≤/–†–‰–ê –ù–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η
–ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Η―¹―²―΄ –Η–Ζ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Γ–≤―è―²–Α―è –†―É―¹―¨¬Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―è―² ―É–±―Ä–Α―²―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―É –Ψ―² ―¹―²–Β–Ϋ –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Β-–Γ–Β―Ä–≥–Η–Β–≤–Ψ–Ι –Μ–Α–≤―Ä―΄ –≤ –Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ 700-–Μ–Β―²–Η―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Η―è. –Γ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–Β –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Η–Β–≤–Α –ü–Ψ―¹–Α–¥–Α. ¬Ϊ–€―΄ ―²―Ä–Β–±―É–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Φ–Α―Ä–Α–Ζ–Φ―É –Η –Α–±―¹―É―Ä–¥―É. –≠―²–Ψ –Ϋ–Ψ–Ϋ―¹–Β–Ϋ―¹: ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ―É, –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–≤―à–Β–Φ―É ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é –ë–Ψ–≥―É, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Η–Ζ–≤–Α―è–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –Μ–Α–≤―Ä―É, –≤―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Φ–Ψ―â–Η –Γ–Β―Ä–≥–Η―è –†–Α–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –û–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –≥–Ψ–¥―É –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –±―É–¥–Β―² –≤―¹–Β–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α―²―¨―¹―è 700-–Μ–Β―²–Η–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Η―è. ¬Ϊ–¦―É―΅―à–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ―É –ë–Ψ–Ε―¨–Β–Φ―É –≤ ―ç―²–Ψ―² –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ βÄî –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ –Ψ―² –Η―¹―²―É–Κ–Α–Ϋ–Α, –Ψ–Μ–Η―Ü–Β―²–≤–Ψ―Ä―è―é―â–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Ψ―Ä―è –Η ―¹–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ, βÄî ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –û―²―Ä–Α–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι.
|
–ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹–Β–Φ―¨–Η¬Ϊ–£―¹–Β ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ, –Α –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Α –Ω–Ψ-―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É...¬Μ βÄ™ ―ç―²―É ―³―Ä–Α–Ζ―É –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² –Β―â–Β ―¹–Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –•–Η–≤–Η –¦–Β–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Ψ–Ϋ –±―΄ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²―΄. –Θ–¥–Β–Μ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η. –†–Β–¥–Κ–Η–Φ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ―΄–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Μ–Α–¥―¨―é –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―². –Θ–¥–Β–Μ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η. –†–Β–¥–Κ–Η–Φ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ―΄–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Μ–Α–¥―¨―é –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―².
–ö–Α–Κ–Ψ–Β –±―΄ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ ―É –Μ―é–¥–Β–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, –±―É–¥―¨ ―²–Ψ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Ϋ―¨―é-―ç–Ι–¥–Ε–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Β¬Μ –Η–Μ–Η –Α―²–Β–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β, –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é―â–Β–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Η ¬Ϊ–Ω–Α―Ä―²–Ϋ―ë―Ä–Α–Φ–Η¬Μ, βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α―é―² –Ζ–Α–Φ–Β―à–Α–Ϋ―΄ –Η –¥–Β―²–Η, ―΅―¨―è –≤–Η–Ϋ–Α–Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –Μ–Η―à―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η―Ö ¬Ϊ–Ζ–Α–≤–Β–Μ–Η¬Μ –Ϋ–Β –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Η –Ϋ–Β ―²–Α–Φ, –Α ―²–Ψ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥―É–Φ–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Η―²―¨¬Μ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –Α–±–Ψ―Ä―². –£ –Η―²–Ψ–≥–Β ―¹―²―Ä–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι, –Η―¹–Κ–Α–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –±–Ψ–Μ―¨ –≤ –¥–Ψ―¹–Β–Μ–Β –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Β–Φ―É –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Β βÄ™ –¥―É―à–Β, –Η―â–Β―² ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤―Ä–Α―΅–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è ―²―É–¥–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β. –‰ –Ϋ–Α–Φ, ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤―΄―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Ω―΄―²–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–Ω―΄―² –¥–≤―É―Ö―²―΄―¹―è―΅–Β–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η, ―ç―²–Η–Φ –≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Η―Ö –±–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄. –ß―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Η –Κ―²–Ψ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²? –ö–Α–Κ –±―΄ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ϋ–Η –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è. –ù–Β―² –Ε–Η–Μ―¨―è? –ö―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―²! –ù–Β―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Η–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Φ–Α–Φ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è, –Ϋ–Β –±–Ψ―è―¹―¨ –±―΄―²―¨ –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ? –ê–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ―É–Η–Κ–Β–Ϋ–¥¬Μ? –£ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Β βÄ™ –¥–Α. –Δ―ë―â–Α –Η ―¹–≤–Β–Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è―² ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ ―¹―³–Β―Ä –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è? –ß–Α―¹―²–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α... –ù–Ψ –≤―¹―ë –Ε–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Β, –Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ù–Α –Ϋ–Η―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Κ–Α–Κ ―¹ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ –Η ―¹ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Α–Φ–Α―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Η―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ―É–Ε–Α –Η –Ε–Β–Ϋ―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –±―É–¥―É―â–Β–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Κ–Α–Κ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―ë―²–Α, –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄. –ê –≤–Β–¥―¨ –±―Ä–Α–Κ –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―è–≤–Μ―è―é―â–Η–Φ–Η―¹―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Ι –Ζ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―â–Η–Ι―¹―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Α–Φ―è―²―¨, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ –Κ –Μ―é–±―΄–Φ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α–Φ –Η –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Η―Ö, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ä–Α–¥―É–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –Ω–Ψ―²―É―¹–Κ–Ϋ–Β―é―², –≤―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥―ë―²–Β –Ω–Ψ –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―É―²–Η. –ë―É–¥–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Μ―é–±–Η―²―¨ –≤–Α―¹, –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü–Α, –Β―¹–Μ–Η, –Ϋ–Β –¥–Α–Ι –ë–Ψ–≥, –≤―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²–Β –Ψ–Ε–Ψ–≥ 30% –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Β–Μ–Α –Η–Μ–Η –Ψ―¹–Η–Ϋ–Α―è ―²–Α–Μ–Η―è –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–Β–¥–Β―² –≤ –‰―²–Α–Μ–Η―é –Ω―Ä–Η ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Η –≤―΄–Κ–Α―Ä–Φ–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―΅–Α–¥? –ê –Β―¹–Μ–Η ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Ψ–Κ ―É –≤–Α―¹, –Ϋ–Β –¥–Α–Ι –ë–Ψ–≥, ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹ ―¹–Η–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Φ –î–Α―É–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è βÄ™ –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Η―² –Μ–Η –≤–Α―à –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―¹–Β–±–Β –¥―Ä―É–≥―É―é ¬Ϊ―¹–Α–Φ–Κ―É¬Μ? –£–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Η –¥–Ψ–≤–Β―Ä―¨―²–Β―¹―¨ –Β–Φ―É, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Ψ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Β... –î―Ä―É–≥–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Η ―΅–Η―¹―²–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―É–Φ–Η―Ä–Α–Β―², –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –¥–Β―²―è―Ö, ―ç―²–Η―Ö –Ω–Μ–Ψ–¥–Α―Ö –Μ―é–±–≤–Η. –û–Ϋ–Α βÄ™ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ βÄ™ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Α–Ω―¹–Η―Ä―É–Β―² –Η ―É–≥–Α―¹–Α–Β―², ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Φ–Κ–Α–Φ–Η –¥–≤–Ψ–Η―Ö, –≤―΄–±―Ä–Α–≤―à–Η―Ö –Φ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Ψ―¹―¹–Ψ–≤–Β―Ä –Η–Μ–Η –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö –Ϋ–Α –€–Α–Ι–Ψ―Ä–Κ–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ¬Ϊ–Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è¬Μ ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Κ–Α. –£–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ, –¥–Μ―è –Μ―é–¥–Β–Ι –Η–Φ–Β―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η. –≠―²–Η–Φ –Φ―΄ ―Ä–Β―à–Α–Β–Φ –Φ–Α―¹―¹―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ. –ù―É, –≤–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―²―¹―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η–Ϋ–Κ―². –ù–Β –±―É–¥–Β―² –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–≤―΄―Ö –Η–Μ–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü –Φ―É–Ε–Α –Η–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―΄ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η, –Ϋ–Α–Ϋ―è–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨―é ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α–¥ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ¬Ϊ―¹―΄–Ϋ―É–Μ―è–Φ–Η¬Μ –Η ¬Ϊ–¥–Ψ―΅–Β–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ–Η¬Μ, –Η–±–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –‰ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –≤ –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –≤–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―É―é-–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―É―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α –Β–Φ―É –Β―â―ë ―Ä–Ψ–Ε–Α―²―¨. –ù–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ –Μ–Η–±–Η–¥–Ψ, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –≤ –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η–Ϋ–Κ―²–Β. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –¥–Β―²–Η –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι βÄ™ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Α–¥–Α–Ω―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Η –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –≤―΄―Ä–Α―¹―²―É―² ―ç–≥–Ψ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–€―΄ –Β–Φ―É –Μ―É―΅―à–Η–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―É-―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²-–≤–Β–Μ–Ψ―¹–Η–Ω–Β–¥, –Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Φ –≤ –Ψ―²–≤–Β―² ¬Ϊ–€–Α―²―Ä―ë–Ϋ–Η–Ϋ –¥–≤–Ψ―Ä¬Μ. –£-―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, βÄ™ –±―É–¥–Β–Φ –Ω―Ä–Α–≥–Φ–Α―²–Η―¹―²–Α–Φ–Η βÄ™ –Ϋ–Α―à–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―². –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η―Ö, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α―Ä–Η–Φ―¹―è βÄ™ –≤―¹―ë –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β―²–Η, –Β―¹–Μ–Η –Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α–≤–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―² ¬Ϊ–Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Ω–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ¬Μ, –Η –Φ―΄ ―É–Φ―Ä―ë–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η, –Α –Ϋ–Β –Ψ―² ―ç–≤―²–Α–Ϋ–Α–Ζ–Η–Η –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –Ω―Ä–Β―¹―²–Α―Ä–Β–Μ―΄―Ö... –€–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ι –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―â–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α. –¦―É―΅―à–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±–Β–Ζ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Κ–Ψ–≤, –Α ―²–Ψ –Η –≤–Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥―¨, ―΅–Β–Φ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É ¬Ϊ–Φ–Α–Φ―΄ –Η –Ω–Α–Ω―΄¬Μ. –£ –Η–¥–Β–Α–Μ–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Φ―É–Ε–Α –Η –Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö ―¹―¹–Ψ―Ä–Α―Ö –Η –Ϋ–Β―É―Ä―è–¥–Η―Ü–Α―Ö, –Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –¥–≤–Ψ–Η―Ö. –ï―â–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²: –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ ―Ö–Ψ―²–Η–Φ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Β―ë –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–Ι –Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―è. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η. –ï―¹–Μ–Η –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄, ―²–Ψ, –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É ―¹―΅―ë―²―É, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ. –‰–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―è –Β―¹―²―¨ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―â–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β, –≥–¥–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι –Α–Κ–Κ–Ψ―Ä–¥ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Ζ –Ϋ–Ψ―², –Η–Φ–Β―é―â–Η―Ö ―¹–≤–Ψ―ë –Φ–Β―¹―²–Ψ, ―². –Β. –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ–Φ –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ï―¹–Μ–Η –Φ―É–Ε –Ϋ–Β –≥–Μ–Α–≤–Α ―¹–Β–Φ―¨–Η, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Η–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–¥–Α–Β―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Φ–Β―΅―²–Α–≤―à–Β–Ι –Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Η―²―¨ ¬Ϊ–¥–Η–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Β¬Μ, –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ψ―² ―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–¥―Ä–Α, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Κ―É―¹ –Μ–Η–¥–Β―Ä―¹―²–≤–Α, –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –™–Μ–Α–≤–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Β–≤–Α–Β―², –Α ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –Ψ–Φ―΄―²―¨ –Ϋ–Ψ–≥–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ. –î–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α ¬Ϊ–î–Ψ–Φ–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι¬Μ, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Φ –Ζ–≤―É―΅–Η―² ―ç―²–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨: ¬Ϊ–£ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –Β―¹―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Μ―É–≥–Α βÄ™ ―¹–Α–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ¬Μ. –Γ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―²–Β–Ζ–Η―¹–Ψ–Φ: –Ϋ–Β―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η–Β –½–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ι –ë–Ψ–Ε–Η–Η―Ö. –ï―¹―²―¨ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä―É–Β―² –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä. –£ –Ϋ–Η―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―²―¨, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―É–¥–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Φ–Ω–Η―Ä–Η–Κ–Α: –≤―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –Ψ–Κ–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ε–Α, –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ι–Φ―ë―à―¨, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Α–Κ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ―É ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Η. –ù–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤―è―¹―¨ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–±–Β―Ä–Β–Ε―ë―² ―¹–≤–Ψ―ë ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β. –ê –Β―¹―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―è βÄ™ –½–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö. –Θ–≤―΄, ―É –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η –±―É–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Δ–≤–Ψ―Ä―Ü–Α ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–¥–Η–Ϋ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ βÄ™ ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―²–Ψ―΅–Κ―É –Ω―É–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β...¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―ç―²–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η–≤ –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―¹–Β–Φ―¨―é. –™―Ä–Β―Ö –±–Μ―É–¥–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―Ä–Α―¹―²–Μ–Β–≤–Α–Β―² –¥―É―à―É, –Κ–Α–Κ ―Ä–Ε–Α–≤―΅–Η–Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ, ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Α―è –Β―â―ë –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤―à–Η–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨―¹―è ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―è –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω–Ψ–Μ–Α–Φ–Η –≤ –Η―Ö –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β. –ü―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è―¹―¨ ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―É–Ω–Β–Β―² –Η –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―é―â–Η–Φ ―¹–Β–±―è –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―¹―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω–Ψ–Μ–Α–Φ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è βÄ™ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α―é―² –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –≤–Η–¥―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α –Κ―É–Κ–Μ―É, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è ―ç―²–Α ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è –Η–≥―Ä–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è, ―¹–Α–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è –Φ–Η–Φ–Η–Κ―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―É―é –≤–Β―â―¨ –Η–Μ–Η –≥–Μ―É–Ω–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Β―Ä―¨–Κ–Α. (–Θ–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―É–≤–Α–Ε–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η –Μ–Β―²–Ψ–Φ, –Η –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―²―¨ –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α –≤ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―É―à–Κ–Β¬Μ). –î―Ä―É–≥–Η–Φ –Ω―Ä―è–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η–±–Η–¥–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Η–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β. –£–Β―¹―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ϋ–Α–Φ –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Η―Ä―É―é―² ―². –Ϋ. ¬Ϊ–Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄¬Μ ―à–Ψ―É-–±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Η–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄, –Β―¹–Μ–Η –± –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ψ–Φ, –¥–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―à–Κ–Η –Η ―¹–Ψ–±–Α―΅–Κ–Η, –Ε–Η–≤―É―â–Η–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Α―é―â–Η–Β―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Α―Ö. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–¥–Η, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–≤―à–Η–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ψ―à–Η–±–Κ–Η, –≤―¹―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Η–Ι, ―¹–Α–Φ―΄–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Ω―É―²―¨ βÄ™―ç―²–Ψ –Ω―É―²―¨, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Α–Φ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Α―² ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤―΄. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Μ―é–±–≤–Η –Η –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²–Β –Ε–Β―Ä―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η ―¹–≤―è―²―΄―Ö –ü–Β―²―Ä–Α –Η –Λ–Β–≤―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Η, ―²–Α–Κ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Ψ–Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η―Ö ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Β –Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η. –£―¹―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι –Η –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ –Ε–Β–Μ–Α―é―² ―¹―²–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ–Α–Φ–Η¬Μ, –Ϋ–Β –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η–Φ–Η―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–Ζ–Ψ–Φ–±–Ψ―è―â–Η–Κ–Α¬Μ, –Α –Η–¥―É―â–Η–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–Ι –Ϋ–Β―²–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –¥–Β–¥―É―à–Κ–Α–Φ–Η –Η –±–Α–±―É―à–Κ–Α–Φ–Η. –£–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―é–Ϋ–Α―è –Ω–Α―Ä–Α, –Ω–Η―²–Α–Β–Φ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α–Φ–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –ü–Β―²―Ä―É –Η –Λ–Β–≤―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Η, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―² ―¹–Β–±―è –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Η–Η –Η ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Β –Η, –Ϋ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Α―è –≤ –¥–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² ―¹–Β–Φ―¨―é, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Β―¹―²―¨ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―à–Α–Ϋ―¹ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Β–Ε–Β―¹―²―¨ ―΅―É–≤―¹―²–≤ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –¥–Α–Ε–Β –≤ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η. –‰–Β―Ä–Β–Ι –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Λ–Β―²–Η―¹–Ψ–≤
|
–Θ–≥–Ψ–Μ―ë–Κ –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–Β―Ü –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, –±–Β–Μ–Ψ–Ζ―É–±, ―¹ –Ω―΄―à–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Α–Ω–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É―¹―΄―Ö –Κ―É–¥―Ä–Β–Ι –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β, –≤―΄―¹–Ψ–Κ –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ, ―¹ –Μ–Η―Ü–Α ―¹ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Κ―É–Μ–Α―Ö –±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―¹―è―â–Η–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö, ―¹ –Μ―É–Κ–Α–≤–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, –≥–Μ–Α–Ζ: - –û―²–Β―Ü –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ, –Ϋ―É –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η! –Δ―Ä―è―Ö–Ϋ–Η ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι! –£ –Ψ―²–≤–Β―² ―è –Φ–Ψ–Μ―΅―É, ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―΄–≤–Α―é. –î–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–≤–Α―²–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨: ―²–Ψ―² ―Ö―Ä–Α–Φ –≥–¥–Β-―²–Ψ –≤ –≥–Μ―É―Ö–Η―Ö –Μ–Β―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥ –Δ–Ψ―²―¨–Φ–Ψ–Ι. –€–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ψ―¹―²―Ä―è–Κ–Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―², ―΅―²–Ψ –±―É–¥―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –ü–Β―²―Ä –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Κ―Ä–Α―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α–Μ, –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –Ψ―²–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ―¹―è: –Ϋ–Η –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β―Ä–Ϋ―É , ―²–Ψ βÄ™ ―²―¨–Φ–Α! - –î–Α ―²–Α–Φ –Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ―É –ü–Α―¹―Ö―É –Κ―Ä―è–¥―É –Ϋ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η, –±–Α―²―é―à–Κ–Η –Ϋ–Β―²! –û―²–Β―Ü –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Κ–Α–Κ –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ βÄ™ –Ψ―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –ë–Ψ–≥―É ―è –Ϋ–Β –±–Β–≥–Α–Μ. - –ê –≤–Ψ―² –Η –Κ–Α―Ä–Β―²–Α –Ω–Ψ–¥–Α–Ϋ–Α! –£ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Ψ–≥―Ä–Α–¥―΄ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –Ϋ–Β―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Η ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ –≤–Κ–Α―²–Η–Μ―¹―è –Η–Ϋ–Ψ–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ε–Η–Ω. –‰–Ζ-–Ζ–Α ―Ä―É–Μ―è –Β–≥–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ϋ―É–Μ –Κ―É―΅–Β―Ä―è–≤―΄–Ι ―¹–Φ―É–≥–Μ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ–Α –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Β. –û–±–±–Β–Ε–Α–≤ –Κ–Α–Ω–Ψ―², –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹–Ω–Α―Ö–Ϋ―É–Μ –¥–≤–Β―Ä―Ü―É –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι - –¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–≤–Α―Ö–Ψ–Ι, –Ω–Β―¹―²―Ä–Ψ –Ψ–¥–Β―²–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ψ―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –≥―Ä―É–¥–Α―¹―²–Ψ–Ι –±–Μ–Ψ–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι. –€–Α―²―É―à–Κ–Α –Ψ―²―Ü–Α –Γ–Β―Ä–≥–Η―è –ï–Μ–Β–Ϋ–Α, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Ϋ–Α―è ―²–Ψ–Μ―¹―²―É―à–Β―΅–Κ–Α, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ψ–±–Μ–Ψ–±―΄–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι. - –ö―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Β? βÄ™ –Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É―é―¹―¨ ―É –Ψ―²―Ü–Α –Γ–Β―Ä–≥–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü, –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Κ–Ψ–≤―à–Η–Κ–Ψ–Φ –Μ–Α–¥–Ψ―à–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –±–Α―²―é―à–Κ–Η –Η –Ψ―²–Ψ―à–Β–Μ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι βÄ€–Ω–Α―¹―¹–Η–ΗβÄù. –ê–Μ–Η–Κ –Η –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Α. βÄ€–ù–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–ΒβÄù, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β βÄ™ –¥–Β―²–Η βÄ€–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―ÖβÄù. –Θ –ê–Μ–Η–Κ–Α –Ω–Α–Ω–Α―à–Α –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Β―Ü –Μ–Η–Κ–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, ―¹―΄–Ϋ –Β–Φ―É βÄ™ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ―¨–Ψ–Ϋ. –ü―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅―à–Β: ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –≤–Η–¥―É –ê–Μ–Η–Κ –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Β―΅–Κ–Α, ―Ö―É–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Η ―à―É―¹―²―Ä―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É–Φ–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ–Α–Ζ ―É–Ε–Β –Φ–Ψ―Ä―â–Η–Ϋ–Κ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―é–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨. –û―²―Ü―É –Γ–Β―Ä–≥–Η―é –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α ―Ä–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Η–Κ βÄ™ –Ω–Ψ–¥ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Ϋ–Η–Κ. –™–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―É ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Ϋ–Η―Ü―΄ –ê–Μ–Η–Κ–Α βÄ™ –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Η―¹―²―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ϋ–Α―è –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, ―΅–Β―²–Κ–Ψ –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤–Α βÄ™ –≥–¥–Β-―²–Ψ ―è –Β–≥–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ. –£―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨: –Ϋ–Α –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –¥–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –≤–Β–¥―É―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅. –£–Ψ―² –Ψ―²–Κ―É–¥–Α ―²–Α–Κ –±–Ψ–Ι–Κ–Α –Ϋ–Α ―è–Ζ―΄–Κ βÄ™ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≤ –Β–Β ―Ä–Β―΅―¨ –Ϋ–Β –≤―²–Η―¹–Ϋ–Β―à―¨. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ, –¥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α ―¹ –ê–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Ε–Β–Ϋ–Α –Η –≤ –¥–Ψ–Φ–Β, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ βÄ™ –Ϋ–Β –≤ ―Ö–Η–±–Α―Ä–Κ–Β, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α. –ê–Μ–Η–Κ –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ βÄ™ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β―΅―¨–Η: –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Φ–Α–Μ–Ψ-–Φ–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―² –Ω―Ä–Β–¥―É–≥–Α–¥–Α―²―¨ –Η ―²―É―² –Ε–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨, –Η –≤―¹–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–Μ–Α―¹–Κ–Α―²―¨―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Ι, –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―É–Κ―Ä–Α–¥–Κ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―É―à–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β ―à–Β–Ω–Ϋ―É―²―¨. –ê –Ψ–±–Ψ–Ε–Ε–Β―²―¹―è –ê–Μ–Η–Κ –Ψ–± ―΅–Β–Ι-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ βÄ™ –Η ―É―à–Η, ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Κ–Η, –Ζ–Α–Ω―É–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Β―é―². –ù–Β ―É–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨: –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–Ε–Κ–Β –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ-―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Α–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ –Η―Ö –≤–Ζ–Ψ―Ä–Α―Ö ―²–Ψ –Μ–Η –≥―Ä―É―¹―²―¨, ―²–Ψ –Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Α. βÄ€–Γ–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Η―²―¹―è –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨. –û–±―Ä–Α–Ζ―É–Β―²―¹―è ―É –≤–Α―¹ –≤―¹–Β. –ü–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ―¹―èβÄΠ –½–Α ―²–Β–Φ –Η –Β–¥–Β–Φ. βÄ™ ―à–Β–Ω–Ϋ―É–Μ–Α –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Β –Η, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α―è, –Ω–Ψ–≥–Μ–Α–¥–Η–Μ–Α –Β–Β –Ω–Ψ ―Ä―É–Κ–Β. –½–Ϋ–Α―²―¨, –Ω–Ψ –¥–Β–Μ―É ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²–Α–Κ ―¹ –Ε–Η―Ä―É –±–Β―¹―è―²―¹―è. –û―²–Β―Ü –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―à–Η―¹―²―΄–Φ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η–Μ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ –¥–Ε–Η–Ω–Α, ―¹–Ω–Β–Μ–Η ―²―Ä–Ψ–Ω–Α―Ä―¨ ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―é –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –€–Η―Ä –¦–Η–Κ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―΅―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―Ü―É, –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―é –≤―¹–Β―Ö –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö , –Η βÄ™ ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ! –ü–Α―¹―Ö–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―è―è –±―΄–Μ–Α. –£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö –Α―¹―³–Α–Μ―¨―² –Ω―Ä–Ψ―¹―É―à–Η–Μ–Ψ, –≥―Ä―è–Ζ―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Α–±–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α–≥–Ϋ–Α–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –≤―΄–Β―Ö–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É –Η ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹―Ä–Α–Ζ―É βÄ™ –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―²―¹―è –Ζ–Η–Φ–Α ―É–≥–Ψ―Ä–±–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤–Ψ―¹–≤–Ψ―è―¹–Η. –ß–Β–Φ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä, ―²–Β–Φ ―Ä–Β–Ε–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è–Φ –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Α―é―² –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Κ–Η ―¹ ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α –Η―Ö ―Ö―Ä–Β–±―²–Η–Ϋ–Α―Ö –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≤–Κ–Ψ–Ι; –≤ –Ϋ–Η–Ζ–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ψ–≤―Ä–Α–≥–Α―Ö, –±―É–Β―Ä–Α–Κ–Α―Ö –Β―â–Β ―²–Α―è―²―¹―è –Ϋ–Ψ–Ζ–¥―Ä–Β–≤–Α―²―΄–Β –±–Μ–Β–Κ–Μ–Ψ-―¹–Η―Ä–Β–Ϋ–Β–≤―΄–Β –Ω–Μ–Α―¹―²―É―à–Η–Ϋ―΄ ―¹–Ϋ–Β–≥–Α. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Κ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―¹―É–Φ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―¹, –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è βÄ™ ―É–Ω–Α―¹–Η, –ë–Ψ–Ε–Β, ―¹―É–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―²―É–¥–Α, –Ζ–Α –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―¹–Ϋ―΄ –Η –Β–Μ–Η, –≤ ―¹―É–≥―Ä–Ψ–±–Α―Ö –Β―â–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ –Ζ–Α–Κ―É–Ω–Α–Β―à―¨―¹―è! –ü–Ψ ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι βÄ€―à–Ψ―¹―¹–Β–Ι–Κ–ΒβÄù –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Κ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, ―¹–Φ–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ; ―è –≤―΄―²―Ä―è―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ―É―¹–Ϋ–Α, –≤–Ζ–¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–≤ –Ψ―² –¥–Η–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ―΄: - –ê–Μ–Η–Κ―É –Ω–Ψ―Ä–Α –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨ –Η –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―è―²―¨―¹―è! –ê–Μ–Η–Κ, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ψ―² –±–Α―Ä–Α–Ϋ–Κ–Η ―Ä―É–Μ―è, –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α–Μ―¹―è: –Φ–Ψ–Μ, –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Φ―΅–Α―²―¨―¹―è –±–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥―΄―à–Κ–Η –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –¥–Α –≤–Ψ―²βÄΠ –€–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Β–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Ϋ–Η―Ü–Α –≤―΄–±―Ä–Α–Μ–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Η―²–Η―é –Η–Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ. –‰–Ζ –Ϋ–Η–Ζ–Η–Ϋ―΄ –Μ–Β–Ϋ―²–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –≤–Ζ–Φ–Β―²–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ―É –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Φ–Α, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ –Ω–Ψ–Μ―É–¥–Ϋ―é, –Ψ–±–Ψ–≥―Ä–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α―¹―²―΄–≤―à―É―é –Ζ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ζ–Β–Φ–Μ―éβÄ™ –Η ―²–Α–Κ–Α―è –¥–Α–Μ―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –¥―É―Ö –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ! –ù–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Α―è ―²–Β–Ϋ―¨ –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ –Ϋ–Α–±–Β–Ε–Α–Μ–Α - –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―² –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Μ–Η –Ω―è―²–Ϋ–Α–Φ–Η –≤―΄―â–Β―Ä–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Α ―Ä―É–Η–Ϋ―΄ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α. –ù–Η –Κ―É–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤ ―¹ –Κ―Ä–Β―¹―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η, –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α―¹―²―Ä–Β―¹–Κ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ψ―¹―²–Ψ–≤ ―¹ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α–Φ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ –Η –±–Β–Μ―΄–Φ–Η ―¹―²–≤–Ψ–Μ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–Ζ–Ψ–Κ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α―é―â–Η–Φ–Η―¹―è –Ω–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―Ä–Α―¹―¹–Β–Μ–Η–Ϋ–Α―Ö –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ψ―² ―Ö―Ä–Α–Φ–Α βÄ™ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹―É―Ö–Η–Φ –±―É―Ä―¨―è–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α –Ψ–±–Β–Ζ–Μ―é–¥–Β–≤―à–Β–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η ―¹ –Ω–Α―Ä–Ψ–Ι-―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤. –ö―Ä―É–Ε–Η―² –Ϋ–Β–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Α–Ϋ–≥–Β–Μ –Ϋ–Α–¥ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ ―¹–Η–Φ, –Η–±–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–Φ, –Ω―É―¹―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Μ―é–¥―¹–Κ–Α―è –Ζ–Μ–Ψ–±–Α, –¥―É―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Η–Μ–Η –±–Β–Ζ–≤–Β―Ä–Η–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Η ―¹–Μ–Β–¥–Α, –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ψ–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η –Κ―Ä―΄–Μ–ΑβÄΠ 2 –£–Ψ―² –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α―è –Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Α –Ψ―² ―à–Ψ―¹―¹–Β, –¥–Ε–Η–Ω –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Β―²–Μ―è–Μ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Β–Μ–Κ―É. –Δ–Α―â–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ –Φ―΄ –Β―â–Β –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, –Η –≤–¥―Ä―É–≥ - –≤ –Ω―Ä–Ψ–≥–Α–Μ–Α―Ö ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―Ö–Μ–Ψ–≥–Ψ –Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ϋ―É–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ε–Η–≤–Ψ-–≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ–¥ ―Ü–≤–Β―² –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Α, ―¹ –Ε–Β–Μ―²―΄–Φ–Η –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö―É, ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Κ–Η. –ê –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Η –≤–Β―¹―¨ ―Ö―Ä–Α–Φ ―¹―²–Α–Μ –≤–Η–¥–Β–Ϋ βÄ™ –Ϋ–Α –≤–Ζ–≥–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ–Β –Κ―Ä―É―²–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ϋ–Α–¥ ―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ–Μ―É―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Μ–Ψ–±–Ψ–Κ–Ψ –≤―΄―¹–Η―²―¹―è; –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–Ι –Κ –Ϋ–Β–Φ―É - –¥–Ψ–Φ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―É–Μ–Η―Ü―΄. –ü–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–¥―Ü–ΒβÄΠ –Θ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Η―à–Κ–Η, ―É–Μ–Β–Ζ―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é, ―²–Ψ–Ω―²–Α–Μ―¹―è –Φ―É–Ε–Η―΅–Ψ–Κ –≤ ―³―É―³–Α–Ι–Κ–Β –Η –≤ –Ϋ–Α―Ö–Μ–Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Ι ―à–Α–Ω–Κ–Β ―¹ ―Ä–Α―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―à–Α–Φ–Η. –û–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―¨–Κ–Ψ–Φ –Κ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ –Μ–Α–¥–Ψ―à–Κ―É, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ―²–Ψ ―Ä–Η―¹–Κ–Ϋ―É–Μ ―¹―É–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹―é–¥–Α –Ϋ–Α –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β. - –ù–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―²–Β―Ü –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι –Η –Κ–Η–≤–Ϋ―É–Μ –ê–Μ–Η–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è. –€―É–Ε–Η―΅–Ψ–Κ, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–≤ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β―Ä–Ϋ―É–Μ ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ ―à–Α–Ω–Κ―É, ―à–Α–≥–Ϋ―É–Μ –Κ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β. –ß–Β―Ä–Ϋ―΄–Β, ―¹ ―â–Β–¥―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Β–¥―¨―é, –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Ω–Ψ-–Ω–Ψ–Ω–Ψ–≤―¹–Κ–Η ―¹―²―è–Ϋ―É―²―΄ –≤ –Ε–Η–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Η–Κ; ―¹ –±–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Α –≥–Μ―è–¥―è―² ―¹ –Ω–Ψ―²–Α–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨―é –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è-–±–Ψ–≥–Ψ–Φ–Α–Ζ, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ!.. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α―à ―Ö―Ä–Α–Φ, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―É―Ü–Β–Μ–Β–≤―à–Η–Β ―³―Ä–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Ι –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β ―é―²–Η–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Η―à–Κ–Ψ, ―¹–Μ–Α–≤–Α –ë–Ψ–≥―É, –Ϋ–Β –Κ–Μ―É–± –Η –Ϋ–Β –±–Α–Ϋ―è, –≤–Ψ―² –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ. –€–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤–Η―²―΄–Ι ―Ä–Β―¹―²–Α–≤―Ä–Α―²–Ψ―Ä –Ϋ―΄–Ϋ–Β –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Β, –¥–Ϋ–Β–Φ ―¹ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –Β–≥–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Η –Ϋ–Β ―¹―΄―â–Β―à―¨, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è ―Ä–Β–±―è―²–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Β. –Θ–Φ–Β–Μ―¨―Ü―΄ ―ç―²–Η –Κ–Ψ―΅―É―é―² –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Η–Ζ ―¹–Β–Μ–Α –≤ ―¹–Β–Μ–Ψ, –≥–¥–Β –Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β, –Ω–Ψ–±–Ψ–≥–Α―΅–Β –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ–Β–Β, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Β―¹―²―¨. –ö―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η βÄ™ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Μ–Η –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Μ–Η ―¹ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ―É―΅–Κ–Η βÄ™ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η―Ö –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―². –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ-–±–Α―²―é―à–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―΅–Η–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Κ―Ä―è–Κ–Ϋ–Β―² –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Φ–Α―Ö–Ϋ–Β―² ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ ―Ä–Α―¹―²―Ä―É–±–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α ―Ä―è―¹―΄ βÄ™ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Μ―è―é! –ü―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Η―²―¹―è –≤―Ä–Β–Φ–Β―΅–Κ–Ψ, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―² –±–Ψ–≥–Ψ–Φ–Α–Ζ―΄ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ –Η βÄ™ –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―²–Η―Ü―΄, –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ –†―É―¹–Η. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, ―²–Ψ―², –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è. –£–Ζ―è–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Φ. –£ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Η–±–Α―Ä–Κ–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Η, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Φ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ ―Ö–Ψ–Μ―¹―²–Α–Φ–Η. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ–Η –±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Ψ―²―É―Ö–Ψ–Ι –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ψ–≥―Ä–Α–¥―΄ –Η –Ψ―²–Ω―É–≥–Η–≤–Α–Μ –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ, –Ψ―²–Ψ―¹–Ω–Α–≤―à–Η―¹―¨, ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ζ–Α ―Ö–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Φ ―¹ –Κ–Η―¹―²―¨―é –≤ ―Ä―É–Κ–Β. –ï―¹–Μ–Η –Κ―²–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Β–≤–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Ι, ―²–Ψ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ ―Ö–Ψ–Μ―¹―² –Κ―É―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Η –Η ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α–Μ―¹―è. –ü―Ä–Η―à–Β–Μ―¨―Ü―΄ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ–±–Β―¹–Κ―É―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η–≤, –Φ–Α―Ö–Α–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι: –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―², –Α –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ―²–≤–Α–¥–Η–Μ―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ―² –Κ–Ψ―΅–Β–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―²–Ψ –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è ―É –Ϋ–Α―¹βÄΠ –½–Α βÄ€―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―è―â–Η–ΚβÄù –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Β―Ü ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―É―é –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É. –î–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―è, –Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Κ –¥–≤–Β―Ä―è–Φ –≤ –Ω―Ä–Η―²–≤–Ψ―Ä–Β, –Ψ–¥–Β―²–Α―è –≤ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―é ―²–Β–Φ–Ϋ―É―é –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É, –Ζ–Α–Φ–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ-―¹―²–Α―Ä―É―à–Β―΅―¨–Η –Ω–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Β –±―Ä–Ψ–≤–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―à–Α–Μ–Ψ–Κ. –ö –Ω–Μ–Β―΅―É –Β–Β –Μ―¨–Ϋ―É–Μ–Α –¥–Β–≤―΅―É―à–Κ–Α –Μ–Β―² –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η, –¥―Ä―É–≥–Α―è, –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, –Ω–Ψ–¥–Ω―Ä―΄–≥–Η–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Η ―²–Β―Ä–Β–±–Η–Μ–Α –Φ–Α―²―¨ –Ζ–Α –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ―¨. - –ë–Β–Ε–Β–Ϋ―Ü―΄ –Ψ–Ϋ–Η, ―¹ βÄ€―é–≥–Ψ–≤βÄù, - –Ω–Ψ―è―¹–Ϋ―è–Μ–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α, –¥–Α–Μ―¨–Ϋ―è―è –Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α. βÄ™ –ü―Ä–Η―é―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―èβÄΠ –£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι, ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Η –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Φ―è–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Α, –Β―â–Β –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α. –†–Α―¹―Ü–≤–Β–Μ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η. –ß―²–Ψ –Ε, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è-–±–Ψ–≥–Ψ–Φ–Α–Ζ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Η ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―É–Φ–Β–Μ. –‰ –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―É –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―è –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É-―΅―É–Μ–Α–Ϋ―΅–Η–Κ, ―¹–Φ–Β–Ε–Ϋ―É―é ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–ΒβÄΠ –ü―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Η –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –± ―É–Β―Ö–Α–Μ–Η –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Κ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Β –¥–Α –Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨. βÄ€–û–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±–Ψ–≥–Ψ–Φ–Α–Ζ–Α –Κ–Ψ―΅–Β–≤–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨! βÄ™ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β. βÄ™ –‰ ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Ω–Ψ–≤–Α–¥―΄ –Ω―Ä–Η―Ö–≤–Α―²–Η–Μ. –£–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É βÄ™ –≤–Ψ–Μ―èβÄΠβÄù –‰ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ψ―², –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –≥–Μ―É―à–Η, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, ―¹―É–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ζ–Α–±–Β–≥–Α―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹ –Κ―Ä–Α―è ―²―Ä–Ψ–Ω–Η–Ϋ–Κ–Η, –≤–Β–Μ –Ϋ–Α―¹ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ψ–±–Η―²–Α–Μ–Η―â―É, –Α –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄–Μ–Β―΅–Κ–Β, –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α―è―¹―¨, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Α –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α. –£–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É, –≤ –¥–Β–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Β―â–Β –¥–Β–≤―΅―É―à–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α ―É–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Η–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –Ϋ–Α ―΅―É–Ε–±–Η–Ϋ―É. –£ –Η–Ζ–±–Β βÄ™ –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ζ–Α―²–Β–Ι, –Ϋ–Β–±–Ψ–≥–Α―²–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É, ―É –Ψ–Κ–Ϋ–Α, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ ―Ö–Ψ–Μ―¹―²―΄. –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –±―΄–Μ –≤–Β―Ä–Β–Ϋ ―¹–Β–±–Β ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―è–≥–Α-―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ: –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―Ö–Ψ–Μ―¹―² –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Ψ–Φ. - –£–Ψ―² –¥–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅―É, ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨βÄΠ –ê –¥–Μ―è –≤–Α―¹, –±–Α―²―é―à–Κ–Α, –≤―¹–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–Μ―¹―²–Β –Ϋ–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε βÄ™ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Α―è ―É–Ϋ―΄–Μ–Α―è –≥–Μ–Α–¥―¨ ―Ä–Β–Κ–Η –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ, ―΅–Β―Ä–Β–¥–Α ―²–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Η―à–Β–Κ –Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ϋ–Η―Ö –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Β–Β―² ―¹–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä, –Α –Ϋ–Α–¥ –≤―¹–Β–Φ, –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ-–±–Α–≥―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ζ–Α–Κ–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Α, –Ϋ–Α –Κ―Ä―É―²–Η–Ζ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥ ―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ–Μ―É―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι βÄ™ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ! βÄ™ ―Ö―Ä–Α–Φ. –û―²–Β―Ü –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö–Φ―΄–Κ–Ϋ―É–≤, –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ―à–Β–Μ–Β–Κ –Η –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β. –Δ–Ψ―² ―¹–Φ―è–Μ –Η―Ö –≤ –Κ―É–Μ–Α–Κ–Β –Η, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨, –Ζ–Α–±–Ψ―Ä–Φ–Ψ―²–Α–Μ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ: - –û–±–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –¥–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α–Κ―É–Ω–Μ―é! –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ε–¥―É―²! –î–Ψ―΅–Β―Ä–Η –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Η-–Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι, –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―É –Ψ―²―Ü–Α –Γ–Β―Ä–≥–Η―è. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―΄, –Ψ–±–Β –±–Β–Μ–Ψ–Μ–Η―Ü―΄–Β, ―Ä―É―¹―΄–Β βÄ™ –≤―΄–Μ–Η―²–Α―è –Φ–Α―²―¨, –Α –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è, –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ψ―΅–Κ–Α, ―¹–Φ―É–≥–Μ–Α―è, ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –≤ –Κ―É–¥―Ä―è―à–Κ–Α―Ö –Η –≥–Μ–Α–Ζ–Β–Ϋ–Κ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ζ–Α―²–Α–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨―é, –Α –Ε–Η–≤―΄–Β, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Β. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –≤―ä–Β―Ä–Ψ―à–Η―²―¨ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–Ι –¥–Ψ―΅–Κ–Β –Κ―É–¥―Ä–Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β, –Ϋ–Ψ –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹–Ψ–¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –Α–Ε ―¹–Ψ–≥–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ –Ψ―² –Ϋ–Α–Κ–Α―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Α –Κ–Α―à–Μ―è. –û–Ϋ –Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―à–Μ–Η–≤–Α–Μ, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι, –¥–Α –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. - –ü―Ä–Ψ―¹―²―É–¥–Η–Μ―¹―è ―è. βÄ™ –Ψ―²–¥―΄―à–Α–≤―à–Η―¹―¨, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Η, ―¹–Φ–Α―Ö–Η–≤–Α―è –Κ–Α–Ω–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ―¨―é –Ω–Ψ ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―²―à–Β–Φ―É –Ϋ–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―Ü–Β–Φ –Μ–Η―Ü―É. βÄ™ –ù–Α ―²–Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥ –Β―â–Β –Ω–Ψ –Μ―¨–¥―É –Ϋ–Α βÄ€–Ϋ–Α―²―É―Ä―ÉβÄù –±–Β–≥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –¥–Ψ–Ω–Η―¹–Α―²―¨, –≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Η–Ϋ–Β –Η –Η―¹–Κ―É–Ω–Α–Μ―¹―èβÄΠ –£―΄ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―²–Β? –· –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε―É, –Κ–Μ―é―΅–Η –≤–Ψ―² –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É! - –Γ–Α–Φ–Η –±―΄ –¥–Ψ―à–Μ–Η, ―¹―²―Ä–Α–Ε ―²―΄ –Ϋ–Α―à –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι! βÄ™ –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É –Ψ―²–Β―Ü –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι. - –ù–Β―², –Ϋ–Β―²! –· –±―΄―¹―²―Ä–Ψ! βÄ™ –Ζ–Α―¹―É–Β―²–Η–Μ―¹―è –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è. –ù–Α –Κ―Ä―΄–Μ–Β―΅–Κ–Β –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Α –±―Ä–Β–Ζ–≥–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ―²―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α βÄ™ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ–Ϋ–Α –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α, ―²–Ψ–Ω―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Β–Ϋ―è―Ö, –Η –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Α –Φ–Α―²―É―à–Κ–Β –ï–Μ–Β–Ϋ–Β: - –Δ―É―² ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–¥–Ψ–Ι –Ω–Α―Ö–Ϋ–Β―², –Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―É–Ε–Β, –¥–Β―Ä–Ε–Η―²–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–ΒβÄΠ –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β –Ε–Η–≤―É―²! 3 –£–Β―¹―¨ –Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι –≤–Ζ–Μ–Ψ–±–Ψ–Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―²―΄–Ι ―â–Β–¥―Ä–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β–Φ, –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Β–Μ ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≤–Ψ–Ι. –û―² ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è ―Ä–Β–Κ–Η –≤–Β―è–Μ–Ψ ―¹–≤–Β–Ε–Β―¹―²―¨―é, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ; ―²–Β–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–±–Μ–Β―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–¥―¨―é, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Ϋ–Η–Ϋ–Β, ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄, –±―Ä–Β–≤–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―Ä―è–≥–Η, –≤―¹―è–Κ–Η–Ι –Φ―É―¹–Ψ―Ä. –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―Ä–Ψ–¥–Β –± –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Ψ―΅–Η―â–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ–Μ―É―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α–Μ –≥―É–Μ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≥–Η–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β―â–Α–Μ–Ψ, –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Α―Ö–Α–Μ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤ ; –Ψ–Ω―è―²―¨ ―Ä–Β–Κ–Α –Ϋ–Β―¹–Μ–Α –≤―΄―Ä–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Η–Ζ –Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―²–Α–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–Φ―Ä–Α–Κ–Α –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹–Μ–Β–Ω–Η–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, –Η ―¹–Ψ –≤–Ζ–≥–Ψ―Ä–Κ–Α –Κ –≤–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Β –Φ―΄ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Γ–Β―Ä–≥–Η–Β–Φ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ―è–Ζ–Μ–Η–≤–Ψ, ―Ü–Β–Ω–Μ―è―è―¹―¨ –Ζ–Α ―Ö–Μ–Η–Ω–Κ–Η–Β –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Η–Μ–Α. –£ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Φ, –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ, ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹–Ω–Η―¹―¨―é –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö, ―²–Κ–Α–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ―â–Α―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―Ä–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―²–Α―¹ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Α. –ù–Α –≤–Η―²―΄―Ö ―¹―²–Ψ–Μ–±–Η–Κ–Α―Ö –Β–≥–Ψ –Η –Α―Ä–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α–¥ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α–Φ–Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Κ, –Μ–Η―¹―²–Ψ―΅–Β–Κ, –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–Κ –≤―΄―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―¹ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é. –ü―Ä–Β–¥–Ζ–Α–Κ–Α―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ–Ψ –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α ―Ö―Ä–Α–Φ–Α, –Η –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä –Ζ–Α―¹–≤–Β―²–Η–Μ―¹―è ―²–Β–Ω–Μ–Ψ. - –û―²–Κ―É–¥–Α –Ε ―΅―É–¥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β?! –≠―²–Ψ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Η–Μ–Η –≤ –ü–Η―²–Β―Ä–Β –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –≥–¥–Β ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨! –û―²–Β―Ü –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Ϋ–Η―è ―É–Μ―΄–±–Α–Β―²―¹―è: –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Β–Β―à―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―é–¥–Α –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ, –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ω–Μ―΄–≤–Α―é―â–Η–Β –Ω–Ψ ―Ä–Β–Κ–Β –Μ―¨–¥–Η–Ϋ―΄: - –Θ–Ε –Κ–Α–Κ ―¹–Μ―΄―à–Α–ΜβÄΠ –Γ–Β–Μ–Ψ –Ζ–¥–Β―à–Ϋ–Β–Β –ü–Ψ–Ε–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Ψ, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –¥–Β–≤―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ϋ―è–Ζ―é –ü–Ψ–Ε–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ―É –≤ ―Ä–Ψ–¥―É. –ë–Β–Ζ–¥–Β―²–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Κ–Ϋ―è–Ζ―¨ –Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―² –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Η–Ζ –ü–Η―²–Β―Ä–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨,–Α ―²―É―² ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Η ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β―²―¹―è, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ –Κ–Ϋ―è–Ζ–Β–≤―É –±–Β–¥―É. βÄ€ –Θ–Κ―Ä–Α―¹―¨, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―¹–Β–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ, –Φ–Η–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤–Ψ ―¹–Μ–Α–≤―É –ë–Ψ–Ε–Η―é, ―΅―²–Ψ–± ―¹–Μ–Α–≤–Α –Ψ –Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Α! –‰ ―²–Β–±―è –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²βÄù. –ö–Ϋ―è–Ζ―¨ –±–Ψ–≥–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±―΄–Μ, –Ω–Ψ―Ä–Α―¹–Κ–Η–Ϋ―É–Μ ―É–Φ–Ψ–Φ ―²―É–¥–Α-―¹―é–¥–Α –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤ –ü–Η―²–Β―Ä–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α–Φ –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―²–Α―¹ –Η–Ζ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Α. –ü―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Β–≥–Ψ, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η. –ö―Ä–Α―¹–Ψ―²–Η―â–Α! –‰ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹–±―΄–Μ–Ψ―¹―¨: –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Κ–Ϋ―è–≥–Η–Ϋ―è –Η ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α. –Γ ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄ –Η ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹―é–¥–Α –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ψ ―΅–Α–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Η –Ψ―²―΅–Α―è–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Α―Ä―΄βÄΠ –≠―²―É –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Φ–Ψ―è –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α. –¦–Β–Ε–Α–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α–Μ–Α―²–Β. –€–Ψ―è –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α―¹―¨, –Α ―²–Α ―¹–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α, –Η –≤―Ä–Α―΅–Η –≤–¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Η βÄ™ –¥–Β―²–Β–Ι –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―². –ù–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹–Β –≤–Ψ–Μ―è –ë–Ψ–Ε―¨―èβÄΠ 4 –Γ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É―²―Ä–Α –Β―â–Β –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –Ω―É―¹―²–Ψ–≤–Α―²–Ψ. –ö –Ψ―²―Ü―É –Γ–Β―Ä–≥–Η―é –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Β–Φ –Ε–Φ–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η―à–Κ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹―²–Α―Ä―É―à–Β–Κ, –¥–Α βÄ€–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–ΒβÄù –Ϋ–Α―à–Η, –ê–Μ–Η–Κ ―¹ –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι, ―¹―²–Ψ―è―² –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É –Ψ―² ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö –≤―Ä–Α―², –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄. –½–Α–Ε–≥–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β, ―¹–Α–Φ―΄–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η―¹―¨, ―¹–≤–Β―΅–Η, –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Μ–Ψ, –≤–Ζ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―Ä―É–Κ–Η; –Ψ–±–Α –≤–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è, –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨, –≤ –±–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄–Ϋ –Μ–Η–Κ. –Γ –Κ–Μ–Η―Ä–Ψ―¹–Α –Ζ–Α―΅–Α―¹―²–Η–Μ βÄ€―΅–Α―¹―΄βÄù ―¹―²–Α―Ä―É―à–Β―΅–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹; –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ-–Ω–Ψ–Φ–Α–Μ―É ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Η―²―É―Ä–≥–Η–Η –Φ―΄ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Γ–Β―Ä–≥–Η–Β–Φ, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –≤―΄–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥, ―É–Ε–Β –Β–¥–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Η–Ζ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä–Η―΅–Κ–Ψ–Φ-―Ö–Ψ―Ä―É–≥–≤–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–Φ –Η –Ω–Β–≤―΅–Η–Φ–Η. –Δ―É―² –Ε–Β ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Ι–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–±―è―²–Η―à–Β–Κ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –Φ–Μ–Α–¥―à–Α―è –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α. –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ε–Β βÄ™ –≤ ―É–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Φ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Α–Ω–Β―Ä―²―¨ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Ι –Ω–Ψ–¥―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥ –Μ–Ψ–Κ–Ψ―²―¨, –Η –Κ–Α–¥–Η–Μ–Ψ –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι ―Ä―É–Κ–Β, –Ζ–≤―è–Κ–Ϋ―É–≤ ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η, ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–± ―¹―²–≤–Ψ―Ä–Κ―É –≤–Ψ―Ä–Ψ―². –•–Η–≤―΄–Φ–Η ―¹–≤–Β―²–Μ―è―΅–Κ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η―¹―¨ ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Η, –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ–±–Ε–Β–≥ –Ϋ–Β–Ε–Ϋ―É―é ―â–Β―΅–Κ―É –£–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―΅–Κ–Η. –î–Β–≤―΅―É―à–Κ–Α –Η―¹–Ω―É–≥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Μ–Η―΅–Η–Κ–Ψ –Μ–Α–¥–Ψ―à–Κ–Α–Φ–Η, –Ζ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α βÄ€–€–Α–Φ–Α, –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Α!..βÄù –Η ―²–Κ–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ψ–±―²―è–Ϋ―É―²―΄–Β –¥–Ε–Η–Ϋ―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Η –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ―΄. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι ―à–Μ–Η –≤–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―É―é –Ζ–Α ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Α –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–Ε–Α–Μ–Α –Κ ―¹–Β–±–Β, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Α―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―É―à–Κ–Ψ. –€–Η–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Η–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ ―è, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β―É–Κ–Μ―é–Ε–Η–Ι –Φ–Β–¥–≤–Β–¥―¨, –¥–Α –Ψ―²–Β―Ü –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι –Η βÄ€–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–ΒβÄù –Ϋ–Α―à–Η. –ù–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ψ―²―É―Ä–Β, –Ϋ–Α –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Β –Ζ–Α–¥–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ–Η–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –Η–Ζ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α, ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω–Μ―΄–Μ–Ψ: βÄ€–Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β –Η–Ζ –Φ–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Γ–Φ–Β―Ä―²–Η―é ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤, –‰ ―¹―É―â–Η–Φ –≤–Ψ –≥―Ä–Ψ–±–Β―Ö –Ε–Η–≤–Ψ―² –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–≤. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β –Η–Ζ –Φ–Β―Ä―²–≤―΄―Ö!..βÄù –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Α ―¹ –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Α –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―Ö―Ä–Α–Φ; –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α, –Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β –Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄–Β βÄ€–Ζ–Α―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–ΒβÄù, –Φ―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Β–Β ―¹–Η–¥―è―â–Β–Ι –Ϋ–Α –Μ–Α–≤–Ψ―΅–Κ–Β –Ζ–Α –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι. –î–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α ―¹–Ω–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Ψ; –Ϋ–Α ―â–Β―΅–Κ–Β –Β–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Μ–Ψ –Ω―è―²–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ –Ψ–Ε–Ψ–≥–Α. - –Δ–Η―Ö–Ψ, ―²–Η―Ö–Ψ!.. βÄ™ –Ζ–Α―à–Η–Ω–Β–Μ–Α –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –ê–Μ–Η–Κ–Α. –Δ–Ψ―² –Β―â–Β –±―΄–Μ –Η –≤–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Κ―Ä–Β―Ö–Ψ–Ϋ–Β–Κ, ―¹ –Ϋ–Ψ–≥ –¥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ βÄ™ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥―É ―²–Α―¹–Κ–Α–Μ –Ζ–Α –±–Α―²―é―à–Κ–Ψ–Ι βÄ€–Η–Ψ―Ä–¥–Α–Ϋ―΅–Η–ΚβÄù ―¹–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Κ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä―è–Ϋ. - –™–¥–Β ―ç―²–Ψ―² –≤–Α―àβÄΠ–£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è? βÄ™ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―à–Β–Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Α –Η, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α―è―¹―¨ –Ψ―²–≤–Β―²–Α, –¥–Μ―è –Ω―É―â–Β–Ι, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Μ–Η–≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹ ―Ä–Β―¹–Ϋ–Η―Ü, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –ê–Μ–Η–Κ―É ―¹ –Κ–Α–Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ―²–Κ–Α–Φ–Η –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β: - –£―¹―ë, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Φ–Ψ―ë! –†–Β―à–Β–Ϋ–Ψ βÄ™ –±–Β―Ä–Β–Φ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É ―¹–Β–±–Β!.. –‰ –Ϋ–Α ―²–Β–±―è, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η, –Ψ–Ϋ–Α –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Κ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α! –ê–Μ–Η–Κ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Η–≤–Ϋ―É–Μ. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è ―¹ –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–≥–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Β: –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä―΄–Φ ―à–Α–≥–Ψ–Φ, –≤―¹―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ ―Ä–Β–±―è―²–Η―à–Β–Κ –Ϋ–Α–Ϋ–Α―É―à–Ϋ–Η―΅–Α–Μ –Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Η. –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –≤–Ζ―è―²―¨ ―É –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ―΄ ―¹–Ω―è―â―É―é –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²―É―²-―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ: ―²–Α –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Α –Β–Β –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨, –Ψ–±–Ϋ―è–Μ–Α –Κ―Ä–Β–Ω―΅–Β. - –€―΄ ―Ö–Ψ―²–Η–Φ –Β–Β ―É–¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η―²―¨. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, –≤―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤? βÄ™ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―è―â–Β, –Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, –≤―¹–Β –Ϋ–Α–Φ –¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α. βÄ™ –Θ –Ϋ–Α―¹ –Β–Ι –±―É–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―² –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β. –Θ –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ―΄ –Ζ–Α―Ä–¥–Β–Μ–Η―¹―¨ ―â–Β–Κ–Η, –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―΄―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ζ–Α―Ö–Ϋ―΄–Κ–Α–≤―à―É―é ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –¥–Ψ―΅–Κ―É –Η–Ζ –Ψ–±―ä―è―²–Η–Ι –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ―΄. - –ù–Β –Κ―É–Κ–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –≤–Α–Φ! βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α ―¹–Β―Ä–¥–Η―²–Ψ. βÄ™ –€―΄ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―ë–Φ! –‰, –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –Ω–Ψ―à–Μ–Α, –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α―è –¥–Ψ―΅–Κ―É –Κ ―¹–Β–±–Β. –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è, –Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è―¹―¨, –Ω–Ψ–±―Ä–Β–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Β―é. - –£―΄ –Ε–Β –±–Β–¥–Ϋ―΄–Β! –ö–Α–Κ–Ψ–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É-―²–Ψ –Ε–¥–Β―², –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β! βÄ™ –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α –Η–Φ –≤―¹–Μ–Β–¥ –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Α. βÄ™ –ù―É, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Μ―é–¥–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è! –‰ ―É–Ε –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―΄–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Α –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ, ―΅―É―²―¨ ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ: - –û–Ϋ–Α –Ε–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Α–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–ΑβÄΠ –ê–Μ–Η–Κ, –Ζ–Α–¥―Ä–Α–≤ –Κ–Α–Ω–Ψ―² –¥–Ε–Η–Ω–Α, ―¹―²–Α–Μ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Β, –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Α –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ –Η ―¹–Η–¥–Β–Μ–Α ―²–Α–Φ ―¹ –Ψ―²―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ, –≤―΄―²–Η―Ä–Α―è ―¹–Μ―ë–Ζ―΄. –€–Α―²―É―à–Κ–Α –ï–Μ–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É –Κ –Ϋ–Β–Ι, –Ζ–Α―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α―é―â–Β. –· –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ψ―²―Ü–Α –Γ–Β―Ä–≥–Η―è βÄ™ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ω–Ψ―Ä–Α –Η ―΅–Β―¹―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –≤ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è. –ê –Ψ–Ϋ ―²―É―², –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É, –±―΄–Μ, ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≤―¹–Β: - –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ! βÄ™ –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ. –ê –Κ–Ψ–≥–Ψ - –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ε–Η–Ω –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―²–Η–Μ –Κ –≤―΄–Β–Ζ–¥―É –Η–Ζ ―¹–Β–Μ–Α, –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ζ–Α–Φ–Α―è―΅–Η–Μ –≤–¥―Ä―É–≥ –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―²–Κ–Ψ–Φ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö. - –ü–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Η―²–Β! βÄ™ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ ―¹–≤–Β―Ä―²–Ψ–Κ; ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α. –ë–Β–Μ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ –Ψ–Ω–Ψ―è―¹―΄–≤–Α–Μ –Ω–Ψ –Η–Ζ―É–Φ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ-–Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ö–Ψ–Μ–Φ―É –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥; ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä―É–≥–≤–Η, –Ζ–Α ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ ―à―ë–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Μ―é–¥, –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β –Η –¥–Β―²–Η. –‰ –≤ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ―é –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β, –≤ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨. βÄ€–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –™–Ψ―Ä–Κ–Α!βÄù - –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―à―²―Ä–Η―à–Ψ–Κ –¥–Ψ–Ω–Η―¹–Α–ΜβÄΠ –‰ –¥–Α―Ä―é –≤–Α–Φ –Β–Β, –¥–Α―Ä―é! βÄ™ ―¹–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ ―Ö–Ψ–Μ―¹―², –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è ―¹–Ψ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―è –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Β –Η –ê–Μ–Η–Κ―É. βÄ™ –ü―Ä–Ψ―¹―²–Η―²–Β –Ϋ–Α―¹βÄΠ –£―¹―é –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ―É―é –Ϋ–Β–±–Μ–Η–Ζ–Κ―É―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Β―Ö–Α–Μ–Η –Φ―΄, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–≤ –Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α: –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ, –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –¥―É–Φ–Κ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –≤―ä–Β–Ζ–¥–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ê–Ϋ–Ε–Β–Μ–Α, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―² ―²―è–Ε–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–±―΄―²―¨―è, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ ―²–Η―Ö–Ψ: - –ü–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Η―²–Β―¹―¨ –Ζ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Η –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ä–Β–Κ–Μ–ΗβÄΠ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤
|
–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤.–ü–Ψ–Ω―ë–Ϋ–Ψ–Κ. –ö―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Η–Ζ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö, –Ψ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–Φ, –≤―Ä–Α―² –≤―¹–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ―΄–Β –Μ–Β–Ω–Β―¹―²–Κ–Η ―Ö–Ψ―Ä―É–≥–≤–Β–Ι, –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä–Η―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Α-–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ä―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Β, –Ϋ–Α–¥―É–≤–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α ―Ö―É–¥–Ψ–Φ ―²–Β–Μ–Β –Ω―É–Ζ―΄―Ä–Β–Φ –Ψ―² –≤–Β―²―Ä–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–≥ –Η –Ψ–Ζ–Μ–Ψ–±–Η–Μ―¹―è –≤–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. –£―΄―¹―É–Ϋ―É–≤ –≤ –Ω―Ä–Ψ–Β–Φ –±–Β–Μ–Β―¹―É―é –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Κ―É, –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ, –Κ–Α–Κ –Η―â–Β–Ι–Κ–Α, –Ϋ–Ψ–Ζ–¥―Ä―è–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –±―É–¥―²–Ψ –Ω–Β―²―É―Ö –Ω―Ä–Ψ–Κ―É–Κ–Α―Ä–Β–Κ–Α–Μ: - –‰–¥―É-―É―²?! –Γ―²–Α―Ä―É―à–Κ–Η-–±–Ψ–≥–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Κ–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ―²―΄ –Η –¥―É―Ö–Ψ―²―΄ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –Ψ―²–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α―é―â–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Α–≤–Ψ―΅–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Β, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ―à–Η–Β –Η―Ö ―¹―é–¥–Α –Ϋ–Α βÄ€–Ε–Η–≥―É–Μ–Β–Ϋ–Κ–Α―ÖβÄù –Η –Η–Ϋ–Ψ–Φ–Α―Ä–Κ–Α―Ö ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è-–Ζ–Β–≤–Α–Κ–Η –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η –Β–Φ―É –Ϋ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Φ: βÄ€–ù–Β –Η–¥―É―²!βÄù. –½–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ä―¨ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ψ―²―É―Ä–Β –Ζ–Α―²–Η―Ö, –Ϋ–Ψ ―¹–Η–≤–Β―Ä–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Ψ–Ω–Η–Μ ―²–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α–¥―²―Ä–Β―¹–Ϋ―É―²―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ–Φ. –Θ―¹–Μ―΄―à–Α–≤ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–±–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β βÄ€–Ϋ–Β―²βÄù, –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ä―¨ ―è―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–≤–Η–Ζ–≥–Ϋ―É–Μ: - –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Ω–Ψ–Ι–¥―É―²... –‰ –Ω―Ä–Η–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Μ ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Κ–Ψ. –ù–Α―Ä–Ψ–¥ –≤–Ϋ–Η–Ζ―É –Ϋ–Α –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Η–Ζ―É–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ, –Ζ–Α–Φ–Β―Ä. –Γ―²–Α―Ä―É―à–Ψ–Ϋ–Κ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―è–Ε–Κ–Α –Κ―Ä–Η–≤–Ψ –Ζ–Α―É―Ö–Φ―΄–Μ―è–Μ–Α―¹―¨. –ù–Α –Ω–Α–Ω–Β―Ä―²―¨, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤―΄–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –Η–Ζ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―¹―²―É–Ω–Α―è, –Κ–Ψ–Μ―΄―à–Α ―Ö–Ψ―Ä―É–≥–≤―è–Φ–Η, ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ―É–Ε–Κ–Η, –Ζ–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Η–Μ ―Ö–Ψ―Ä, ―²―É―²-―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –û–¥–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Ι, –¥―Ä–Β–±–Β–Ζ–Ε–Α–Μ, –Ζ–Α―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Κ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –±―É–±–Β–Ϋ–Β―Ü. –½–≤–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –Ψ–≥―Ä–Α–¥―΄: –≥–¥–Β –Β–Φ―É - ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ψ–Κ―Ä―É–≥―É –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―². βÄ€–·–Ζ―΄–ΚβÄù –Ψ―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β–¥–≤–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Α―²―¨ –¥–≤–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Φ―É–Ε–Η–Κ–Α, –≤–Α–Μ―è–Μ―¹―è ―¹ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ–Α... –ö―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥ –Ψ–Ω–Ψ―è―¹―΄–≤–Α–Μ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Κ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ ―¹–≤―è―²–Ψ―é –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―²–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ―΄, ―²–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥, –Η –Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Β - –Ψ―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Β –≤―¹–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ζ–Α–±―΄–Μ–Η. –ê –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―â―É–Ω–Α–Μ –¥–Ψ―â–Α―²―É―é –Κ―Ä―΄―à–Κ―É –Μ―é–Κ–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –Β–Β –Η –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≥―É –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ―É –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―΄. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ζ–Α―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ―é –Μ―é–Κ, –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Μ–Η―Ü–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–≤―à–Β–Φ―É –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü―É, –Ω–Ψ―Ö–Μ―É–Ω–Α–Μ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―à–Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Β–Κ–Α–Φ–Η. –½–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ä―¨ –±―΄–Μ ―¹–Μ–Β–Ω, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ―¹―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ―É―΅–Η–≤ –Ϋ–Α –Ψ―â―É–Ω―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹―É―΅–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Α ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―Ö, –Α –Η ―â–Β―Ä–±–Η–Ϋ–Κ–Η-–Φ–Β―²–Κ–Η –≤ ―¹―²–Η―¹–Κ–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü―É ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö. –Γ–Μ–Β–Ω–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ä―è –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Η –¥–Β–¥–Ψ–Φ –ï–Ε–Κ–Ψ–Ι, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ε–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α–¥ –‰–Ϋ–Ϋ–Ψ–Κ–Β–Ϋ―²–Η–Β–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ, –¥–Α –Η ―è–Ζ―΄–Κ―É –Η–Ϋ–Ψ–Φ―É –Μ–Β–Ϋ―¨ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Η–Φ–Β―΅–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹―²–Η. –î–Β–¥ –ï–Ε–Κ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―É ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―è –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –€–Α―²–Β―Ä–Η –≤ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Β–¥–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ―É–¥–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Ψ–¥―è–≥, –Ω–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Ω–Β―Ä―²–Η –Η ―¹ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ ―â–Β–¥―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Β–Κ, –Κ–Α–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É–±–Ψ–≥–Η–Β, –≥―É–Ε–Β–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ―É―é –≤ –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹―à–Β–Φ –Κ―É―¹―²–Α–Φ–Η –Ψ–≤―Ä–Α–≥–Β –Ω–Ψ–¥ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–Μ–Φ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Η–≤–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ –±–Β―¹―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―è, –±―΄–≤–Α–Μ –±–Η―², –Ϋ–Ψ ―É–Ε –Β―¹–Μ–Η –Η –≤―Ü–Β–Ω–Μ―è–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Η–¥―΅–Η–Κ―É –≤ –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ, ―²–Ψ –¥–Α–≤–Η–Μ –¥–Ψ ―¹–Η–Ϋ–Β–≤―΄, –¥–Ψ ―Ö―Ä―É―¹―²–Α, –Ϋ–Α―¹–Η–Μ―É –Ψ―²―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η. –ù–Η―â–Η–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η, –Α –ï–Ε–Κ–Α –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Μ―¹―è - –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–Φ–Η. –£–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ –Ζ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Η―à–Κ―É ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―É–≥–Μ–Ψ–Φ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Β –¥–Α ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β―Ä–¥–Ψ–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–¥―É―². –Δ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Μ–Β―², –Η ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ä―¨ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ö―Ä–Α–Φ–Α. –û―²–Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –¥–Α ―΅–Β–Ι - –≤―΄–Ω―΄―²–Α―²―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨. –Δ―Ä–Β–Ζ–≤―΄–Ι –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ―²–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Α –Η–Ζ –Ω―¨―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤ –¥―É―à―É, –Μ–Β–Ζ–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–≤―è―²―΄―Ö –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η. –Θ –¥–Β–¥–Α –ï–Ε–Κ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η–Κ - –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β βÄ€–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–ΨβÄù –Ω–Ψ―ç―²–Α –°―Ä–Κ―É –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –½–Α―Ö–Ψ–¥―è –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―é –≥–Α–Ζ–Β―²―΄, –°―Ä–Κ–Α ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Β–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ βÄ€―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ―¹―èβÄù –Ϋ–Α ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Β –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –ù–Α –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―É―¹–Β―¹―²―¨―¹―è –Ζ–Α –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ψ–±―¹―É–¥–Η―²―¨ ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Α―Ä―΄-―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Κ–Ψ–≤. –Θ―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –±–Β–≥–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –°―Ä–Κ–Η–Ϋ―΄ –Ψ–Ω―É―¹―΄ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β. –‰ –¥–Β―Ä–Ϋ―É–Μ ―΅–Β―Ä―² –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ€―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨βÄù –Ζ–Α ―΅–Η―¹―²―É―é –Φ–Ψ–Ϋ–Β―²―É: - –£–Ψ―Ä ―è –±―΄–≤―à–Η–Ι, –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ. –ß–Β―²―΄―Ä–Β βÄ€―Ö–Ψ–¥–Κ–ΗβÄù –Η–Φ–Β―é... –°―Ä–Κ–Α –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ―É–≤–Μ–Β–Κ―¹―è, –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―É―è ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ―é―é –Ε–Η―²―É―Ö―É, –¥–Α –Η –Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ - ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–¥–Ψ–≤–Μ–Α―¹―΄–Β βÄ€―΅–Μ–Β–Ϋ―΄βÄù –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Β–Φ―É, –Ω–Ψ-–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―¨–Η ―Ä–Α―¹–Ω―è–Μ―è ―Ä―²―΄, ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è –Β–≥–Ψ - –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―¹―É–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ, –≤ ―΅–Β–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―É―à–Ψ–Ϋ–Κ–Α –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è, –Φ―É–Ε–Η―΅–Κ–Α –Ζ–Α –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² ―¹ –Ω–Μ–Β―à–Η–≤–Ψ–Ι, –¥–Β―Ä–≥–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –≤ –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Η–Κ–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η , –Κ–Α–Κ ―É –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―É–Ϋ―è, –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. –ö–Ψ―¹―²―é–Φ –≤ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―É―é –Κ–Μ–Β―²–Κ―É, –Ω–Ψ–Ζ–Α–Η–Φ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―É ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Α, –≤–Η―¹–Β–Μ –Ϋ–Α –°―Ä–Κ–Β –Φ–Β―à–Κ–Ψ–Φ, –±―Ä―é―΅–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Κ–Α―²–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –±―΄ –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ: –Η ―²―Ä–Β–Ω, –Η –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι –≤–Η–¥, –Κ–Α–±―΄ –≤–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤ ―Ä–Α–Ε –°―Ä–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Ω–Ψ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹ –±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –£―΄–Ϋ―É, –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Β–Κ–Β―²–Β! –£―¹–Β ―¹ –Η―¹–Ω―É–≥–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Α–Ω–Α–Μ–Η –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄, –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≤–Ζ–¥―΄―Ö–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α–Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Η –°―Ä–Κ―É –Ζ–Α –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ –Ϋ–Β –≤–Ζ―è–Μ–Η. –Γ ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –°―Ä–Κ–Η –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Β –±–Α–±–Β–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Η ―¹―É–Φ–Ψ―΅–Κ–Η, –Φ―É–Ε–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α―Ö; –Η –°―Ä–Κ–Η–Ϋ―΄ ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ –Ψ―² ―Ä―É–Κ–Η ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ, –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, –Φ–Ψ―Ä―â–Α―¹―¨: βÄ€–ü–Ψ–Β–Ζ–¥ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –¥–Α–Μ―¨ –Ζ–Α―Ä–Β–≤―É―é, –ö–Ψ–Μ–Β―¹–Α –Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―¹―²―É―΅–Α―². –ü–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―΄ –Ζ–Α–Ω–Β–Μ–Η –Ω–Β―¹–Ϋ―¨ –±–Ψ–Β–≤―É―é, –ù–Α–¥ –Κ―Ä―΄―à–Β–Ι –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Κ―Ä–Η―΅–Α―².βÄù - –ß–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ω–Β―Ä―¹―è-―²–Ψ, ―²―É―² ―É –Ϋ–Α―¹ –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–¥―é―²! - –≤–Ψ―Ä―΅–Α–Μ–Α ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―à–Α. –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―² –Ψ–Ϋ ―¹ ―Ä–Ψ–±–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ, –≤–Β–Ζ–¥–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η–≤―΄–Β, ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Μ –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η–≤―à–Η–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η; –Ω―Ä–Η–≤–Β―΅–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―Ä–Β–Ω–Ψ―Ä―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Β―²―É―à–Κ–Β ―¹ –Ψ–±―à–Α―Ä–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–±–Ψ―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö –Η –Κ–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ ―à–Κ–Α―³–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Φ–Η –±―É―²―΄–Μ–Κ–Α–Φ–Η, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―è–Ε–Κ–Α. –Δ―É―² ―É–≥–Ψ―â–Α–Μ–Η –Κ―É―Ä–Β–≤–Ψ–Φ –Η, ―¹–Μ―É―à–Α―è –Κ–Α–Κ―É―é-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –°―Ä–Κ–Η–Ϋ―É –±–Α–Ι–Κ―É, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Β –Κ–Η–≤–Α–Μ–Η. –°―Ä–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ, ―É―Ö–Ψ–¥―è, –Κ–Α–Κ –Η―Ö ―²―É―² –Ε–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤ βÄ€–Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―ÉβÄù –Η ―¹–Φ–Β―è–Μ–Η―¹―¨: βÄ€–£―¹–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι ―¹ –Ϋ–Η–Φ!βÄù –ö–Α–Κ-―²–Ψ –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Ψ: βÄ€–ë―É–¥―É –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―è―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨―¹―è!βÄù, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –Φ–Η–Φ–Ψ ―É―à–Β–Ι... –°―Ä–Κ–Α –¥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄ –≤–Β―Ä–Η–Μ –≤ –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ―É―é ―¹―É–¥―¨–±―É, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Η–≥―Ä–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ―à–Κ–Α ―¹ –Φ―΄―à–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ–Α, βÄ€―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ―É―Ö–ΗβÄù, –≤―²―΄–Κ–Α―è –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β, –Ψ–Ϋ –≤–Μ–Η–Ω –Ζ–Α –Ω―¨―è–Ϋ―É―é –¥―Ä–Α–Κ―É: –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²―΄―à–Κ–Α, ―¹―É―Ö–Μ–Β―Ü, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–±–Η–≤–Α―é―² –Β–≥–Ψ –¥–Ψ βÄ€―²―é–Κ–ΗβÄù, –Ϋ–Α―â―É–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É –Ε–Β–Μ–Β–Ζ―è–Κ―É –Η –≤―¹–Α–¥–Η–Μ –Β–Β –≤ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―Ä–Ζ–Η–Μ―É. –Δ–Ψ―², ―¹–Μ–Α–≤–Α –ë–Ψ–≥―É, –Ψ–Κ–Μ–Β–Φ–Α–Μ―¹―è –≤ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β, –°―Ä–Κ–Α –Ε–Β, –Φ–Ψ―²–Α―è ―¹―Ä–Ψ–Κ, –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ βÄ€–±–Α–Κ–Μ–Α–Ϋ–Ψ–ΦβÄù –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―²―¨. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Ι βÄ€―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²βÄù –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–≤–Β―² –≤–Ψ―à–Β–Μ, –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≤ –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ–Β –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Μ―É–Ω–Η–Μ–Η –¥–Α –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–±–Η–Μ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Μ–Β―¹–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α βÄ€–Ζ–Ψ–Ϋ–ΒβÄù –≤–Ψ–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–Μ―é –°―Ä–Κ–Β –≤–Κ–Α–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Ψ ―¹―΄―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ε―Ä–Α―²–≤―΄, –≤–Η–Ϋ–Α, –±–Α–± –≤–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ψ―â–Α–≤―à–Η–Ι –Η–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ. –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Φ–Ψ―²–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α–Φ, –±–Μ–Α–≥–Ψ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ―΄, –±–Α–Ζ–Α―Ä―΄, –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤–Β–Ζ–¥–Β. –û–Ϋ –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤―΅–Η–Μ―¹―è βÄ€―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨βÄù –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η: –Ψ–±―΅–Η―â–Α–Μ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ ―É –Ζ–Β–≤–Α–Κ, –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α–Μ –Ψ―²―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Β―²–Ψ–Ι –¥–Α–Φ―¹–Κ–Η–Β ―¹―É–Φ–Ψ―΅–Κ–Η –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ―¹―è. –•–Α–Μ―¨ –≤–Ψ―² –¥–Ψ–±―΄―²―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–Ε–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α―è–Μ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―³–Α―Ä―²–Η–Μ–Ψ, –°―Ä–Κ–Α, –Ω―Ä–Η–Ψ–¥–Β–≤―à–Η―¹―¨, –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Κ―É―²–Η―²―¨, –Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ –≤―¹–Β –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Κ, –¥–Α –Η –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η―è ―É–Ε–Β –≤–Η―¹–Β–Μ–Α –Ϋ–Α βÄ€―Ö–≤–Ψ―¹―²–ΒβÄù - ―É–Ϋ–Β―¹―²–Η –±―΄ –Ϋ–Ψ–≥–Η. –ë―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ... –€–Β–Ε–¥―É βÄ€–Ψ―²―¹–Η–¥–Κ–Α–Φ–ΗβÄù –°―Ä–Κ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η―¹―¨. –£ –Μ–Α–≥–Β―Ä―è―Ö –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²―΄ –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β –≤―΄–±–Η–Μ―¹―è. –£ βÄ€―à–Β―¹―²–Β―Ä–Κ–Α―ÖβÄù –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ–Η, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –±―΄–Μ –Ψ–Ϋ –±–Β–Ζ–Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –±–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Α. –£ –Μ–Β―¹―É, –≥–¥–Β –Ζ–Β–Κ–Η –≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è, –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ϋ–Β–≥ ―¹–Ψ―¹–Ϋ―΄, –Ζ–Α–¥–Η―Ä–Α–Μ –Κ –Ϋ–Β–±―É –Η―¹―Ö―É–¥–Α–Μ–Ψ–Β, ―¹ –≤–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è ―â–Β–Κ–Α–Φ–Η –Μ–Η―Ü–Ψ –Η ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―è–Μ –≤–≤―΄―¹―¨ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –≤―΄―²–Α―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―É―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ. –°―Ä–Κ–Η–Ϋ―΄ –Κ―Ä–Ψ–≤–Ψ―²–Ψ―΅–Α―â–Η–Β –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Β –≥―É–±―΄ –Β–¥–≤–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―à–Β–Ω―΅–Α. –ü–Ψ―Ä–Ψ―é –°―Ä–Κ–Α –Ω–Α–¥–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η, –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Κ–Η –Κ –≥―Ä―É–¥–Η. - –ü―Ä–Η–¥―É―Ä―è–Β―²―¹―è! - –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, –Ε–Β―¹―²–Κ–Ψ ―É―¹–Φ–Β―Ö–Α―è―¹―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ω–Ϋ―É―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –±–Ψ–Κ. - –€–Ψ–Μ–Η―²―¹―è! - –Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Η ―²–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–≤―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–±–Ε–Β, –Ω–Ψ–Η–Ζ–Ϋ―É―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι. –Γ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –°―Ä–Κ–Α –Μ–Β–Ζ –Κ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ζ–Α–±―É–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É―à–Κ–Β - ―É–≥―Ä―é–Φ–Ψ–Φ―É, –Ζ―΄―Ä–Κ–Α―é―â–Β–Φ―É –Η―¹–Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–±―¨―è βÄ€–Ω–Α―Ö–Α–Ϋ―ÉβÄù, ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Κ―Ä–Α–¥―΅–Η–≤–Ψ-―É―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ , –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –Ζ–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ―É―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Α–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Β –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –¥―É―à–Η. –‰ –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ζ―É–±–Ψ―²―΄―΅–Η–Ϋ―É –Η–Μ–Η –≤ ―É―Ö–Ψ, –Ψ―²–Μ–Β―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η―à–Η–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ―É―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Μ―é―²―΄–Ι –≥―Ä–Ψ–Φ–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ψ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è. –½–Α –°―Ä–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Ψ―¹―¨ βÄ€–Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–ΨβÄù - –ü–Ψ–Ω. –£–Ψ―² –Ζ–Α ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β... –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι βÄ€–Ψ―²―¹–Η–¥–Κ–ΗβÄù –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ϋ–Β―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ–Ψ –≤ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É, ―²―É–¥–Α, –≥–¥–Β –Ω―É–Ω ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ. –û–Ϋ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―É–Φ–Β–Μ ―Ö―É–¥–Ψ-–±–Β–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ψ–±―â–Α–≥–Β, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Η–Μ, –Ϋ–Β –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≥–¥–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Η –Κ–Β–Φ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Ψ, –¥–Α–Ε–Β ―¹―²–Η―à–Α―²–Α ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ―è―²―¨ –±―Ä–Α–Μ―¹―è. –£–Η–¥–Β–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η. –°―Ä–Κ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―Ä–Α–¥―É―è―¹―¨ ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―é: –Β―¹–Μ–Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―²–Α–Κ, ―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Β–≥–Ψ –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η! –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –±―Ä–Α―²―¨―è –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β, ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι. –û―² –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –±―Ä–Α―²–Α –ê―Ä–Κ–Α–¥–Η―è –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ―É―΅–Α ―Ä–Β–±―è―²–Η―à–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤–Μ–Α―¹―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –¥–Β―²–¥–Ψ–Φ–Α–Φ. –ê –≤–¥―Ä―É–≥... –Ψ–Ϋ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö?! –°―Ä–Κ–Α ―²–Β–Φ –Η ―²–Β―à–Η–Μ―¹―è, –≤–Β―Ä–Η–Μ –Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η–Μ. –°―Ä–Κ–Α ―¹ –¥–Β–¥–Ψ–Φ –ï–Ε–Κ–Ψ–Ι –≤―Ä–Ψ–¥–Β –± –Η –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨: –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö―É –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―², –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –≤–Ϋ–Η–Ζ―É –Φ–Β―²–Β―². –Γ–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É –°―Ä–Κ–Η - ―΅–Β–Ι –¥–Α –Ψ―²–Κ―É–¥–Α, –Η ―²–Ψ―² –≤–Η–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ, –Ω―Ä–Ψ –±―΄–Μ―É―é –Ε–Η―²―É―Ö―É –≤―΄–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –±–Β–Ζ ―É―²–Α–Ι–Κ–Η. –î–Β–¥ –ï–Ε–Κ–Α ―Ö–Φ―΄–Κ–Ϋ―É–Μ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Ψ―΅―É–Ι, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨, –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Β –≤―¹–Β –≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Ι. –‰ ―¹–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ. –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ―É, –Η –¥–Β–¥ –ï–Ε–Κ–Α, –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―É―΅―É―è–Μ ―ç―²–Ψ, –Ζ–Α―²―Ä―è―¹―¹―è –≤ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–Φ ―¹–Φ–Β―à–Κ–Β, ―Ö–Μ―É–Ω–Α―è –Ψ―à–Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Β–Κ–Α–Φ–Η: –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Κ―É–¥–Α –≥–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² - –≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―É–≥–Ψ–Μ. - –‰–Κ–Ψ–Ϋ–Κ–Η-―²–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―¹―²–Α―Ä―΄–Β. –ü―Ä–Ψ ―²–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ―è―è ―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–Φ–Η―Ä–Α―è, –Α –Β–Ι –Η―Ö –Ω–Ψ–Ω–Α–¥―¨―è –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ψ―²–¥–Α–Μ–Α. –†–Ψ–¥–Ϋ―è-―²–Ψ ―Ö―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―è, –≤–Ζ―è―²―¨ –±–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨... –‰ –≤–Ψ―Ä―¨–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α –Ω–Ψ βÄ€–Κ―É–Φ–Ω–Ψ–Μ―ÉβÄù, –Ζ–Α–Φ–Κ–Η –Ϋ–Α –¥–≤–Β―Ä―è―Ö ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –≤―΄–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Η–Μ–Η, –Α –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β –¥–Ψ–¥―É–Μ–Η. –£–Ψ―² ―²―΄, –Ω–Α―Ä―è, –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –Η―Ö ―¹―²―è–Ϋ―É―²―¨ –Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ . –· ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι, –Ϋ–Β ―É–≤–Η–Ε―É! –°―Ä–Κ–Α –±―΄ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –≤―¹–Ω―΄–Μ–Η–Μ, ―É–±–Β–Ε–Α–Μ, ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–≤ –¥–≤–Β―Ä―¨―é - –Κ–Ψ–Φ―É –Μ―é–±–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―²―΄―΅―É―². –ù–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Η–¥–Β–Μ, ―É―¹―²–Α–≤―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β, –≤ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η―Ö –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α―Ö, –Μ–Η–Κ–Η. –û–Ω―è―²―¨ –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–Μ–Η... –‰ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―²–Α–Β―² –Μ–Η―à–Κ―É, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ζ―Ä―è―΅–Η–Ι, –±–Β–Ζ–Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Η –Ω―Ä–Η–Ε–Α–Μ –Κ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―à–Ϋ–Η―Ü–Β –°―Ä–Κ–Η–Ϋ―É ―Ä―É–Κ―É. - –ù–Β –Ψ–±–Η–Ε–Α–Ι―¹―è, –Ω–Α―Ä―è, ―à―É―²–Κ―É―é ―è. –™–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―²–≤–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Β –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ, ―΅–Α―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥–¥–Β? –°―Ä–Κ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η, –Η ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι –Ψ–Ω―è―²―¨ –±―É–¥―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ ―ç―²–Ψ: - –ù―É-–Ϋ―É! –· ―΅–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ-―²–Ψ... –ü–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ. –ù–Α―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α―¹ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―². –ü–Ψ-–≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É... –ü–Ψ–Ω–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –≤ βÄ€―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥βÄù ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –¥–≤–Ψ–Η―Ö –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤-–Ω–Ψ–Ω–Ψ–≤. –ü–Ψ–≤–Β–Μ ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β. –ë–Α―Ü –Η–Ζ –Ϋ–Α–≥–Α–Ϋ–Α! –ê –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Η―², –Ϋ–Β –≤–Α–Μ–Η―²―¹―è. –· –Β―â–Β - –±–Α―Ü, –±–Α―Ü! –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β, –Ω–Ψ–¥–Ε–Η–Μ–Κ–Η –Ζ–Α―²―Ä―è―¹–Μ–Η―¹―¨ - –≤―¹–Β ―¹–Β–Φ―¨ –Ω―É–Μ―¨ –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Μ–Β–Ω–Η–Μ, –Α –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Η―²! –û–±–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β - –Ω–Ψ–Ω-―²–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –¥―è–¥―¨–Κ–Α , –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι, - –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: βÄ€–£–Η–¥–Η―à―¨, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―΄–Ι, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Φ–Β–Ϋ―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―², –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η―², ―΅–Α―¹ –Φ–Ψ–Ι, ―΅–Α―é –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Η–Μ.βÄù –· ―²–Α―Ä–Α―â―É―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥―É―Ä–Α–Κ, –Η –Η–Ζ –Ϋ–Α–≥–Α–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι ―â–Β–Μ–Κ–Ψ―²–Ψ–Κ ―¹–Μ―΄―à–Β–Ϋ. –ü–Ψ–Ω-―²–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α–¥–≤–Η–≥–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ―è–Μ: –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Μ―è―é ―²–Β–±―è, –Ω–Α–Μ–Α―΅–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ! –· ―É–Ε, ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è, –≤―΄–±–Β–Ε–Α–Μ –Ζ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨: –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Η―². –£–Η–Ϋ―²–Α―Ä―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ ―Ä―É–Κ –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ, ―Ö–Μ–Ψ–Ω –≤ –Ω–Ψ–Ω–Α - –Ϋ–Α–Ω–Ψ–≤–Α–Μ! –ê –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É –≤ –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Κ―É - ―²–Α–Φ ―Ö–Η―Ö–Α–Ϋ―¨–Κ–Η –¥–Α ―Ö–Α―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Η! –ß–Β–≥–Ψ ―É–¥―É–Φ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Η - –≤ –±–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ –Ϋ–Α–≥–Α–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―΄―Ö –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ω–Η―Ö–Α–Μ–Η. –£―¹–Β–Φ ―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ, –Α ―è ―΅–Α―è–Μ - –≤―¹–Β, –Κ–Α―Ä–Α―΅―É–Ϋ ―¹―Ö–≤–Α―²–Η―²! - –¥–Β–¥ –ï–Ε–Κ–Α –Ζ–Α―²―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Α–Μ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Β―¹–Κ―É―΅–Η–Φ ―¹–Φ–Β―à–Κ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Η–Ζ―É―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Β–Κ–Η. - –€–Β–Ϋ―è –ë–Ψ–≥ –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Μ... –‰ –Κ–Α–±―΄ –Ϋ–Β ―ç―²–Ψ, –Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –±―΄ –Φ–Ϋ–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β ―¹―΄―Ä–Ψ–Ι. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤―¹–Β―Ö –≤ βÄ€―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥βÄù ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–Φ –Ζ–Α –Η–Φ–Η –Ε–Β ―É–±–Η–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η. –ê ―è –≤–Ψ―², ―Ö–Ψ―²―¨ –Η ―Ö―É–¥–Ψ, –¥–Α –Ε–Η–≤―É: –Ϋ–Η ―²–Β―Ö, –Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²―É –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β –±–Ψ―é―¹―¨. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Μ–Β–Ε–Α―² - –Ω–Ψ–Μ–Β–Ε–Η–≤–Α―é―²... –Θ ―²–Β–±―è, –Ω–Α―Ä―è, –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―¹ ―²–Β–Φ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Φ ―¹―Ö–Ψ–Ε, ―΅–Β ―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ-―²–Ψ, - –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –ï–Ε–Κ–Α –Η –Ζ–Α―à–Α–±–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―à–Ϋ–Η―Ü–Β, –Ϋ–Α―â―É–Ω―΄–≤–Α―è ―¹―²–Α–Κ–Α―à–Β–Κ ―¹ –≤–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. - –ù–Α–Μ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β? –î–Α–≤–Α–Ι –Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ–Β–Φ –Ζ–Α–≥―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Κ–Ψ–≤! –°―Ä–Κ–Α ―¹–Μ―É―à–Α–Μ, ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤―à–Η ―Ä–Ψ―²: –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Β–¥ –ï–Ε–Κ–Α, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β –≤―¹–Β –≤―¹–Κ–Ψ–Μ―΄―Ö–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨, –Ζ–Α–Κ–Η–Ω–Β–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Φ. - –ê-–Α! - –Ψ–Ϋ –¥–Η–Κ–Ψ, –Ω–Ψ-–Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Φ―É, –≤–Ζ–≤―΄–Μ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Α–Κ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Ψ–Φ –Β―â–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –≤―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ω―Ä―É―² –Α―Ä–Φ–Α―²―É―Ä―΄ –≤ –¥–Ψ–±–Η–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Η–Μ―É. - –ù–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨? –ê ―è? –Γ―΄–Ϋ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α! –î―É–Φ–Α–Β―à―¨, –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―É ―²–Β–±―è ?! –°―Ä–Κ–Α , ―¹–Ε–Η–Φ–Α―è –Κ―É–Μ–Α–Κ–Η, –Ω―Ä–Η–≤―¹―²–Α–Μ ―¹–Ψ ―¹―²―É–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –¥–Β–¥ –ï–Ε–Κ–Α, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –≤–¥―Ä―É–≥ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ –Η, –¥–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Ζ–Α―²–Η―Ö. βÄ€–ù–Β―É–Ε―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Η–± –Ω–Α–¥–Μ―É? - –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ―É–Μ–Α―΅–Ψ–Κ. - –ù–Β –¥–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±, –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ. –ê –≤–Β–¥―¨ ―É–±–Η–Μ...βÄù –°―Ä–Κ–Α –Ζ–Α―¹―É–Β―²–Η–Μ―¹―è, –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Μ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η, ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²―è―¹―¨. –‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ―²–Α–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä―É–Ε–Η–Ϋ–Α - –≤–Ψ–≤–Β–Κ –Β–Ι –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ä–Ε–Α–≤–Β―²―¨. –û–Ϋ, –Ϋ–Α―à–Α―Ä–Η–≤ –≤ ―É–≥–Μ―É –≥–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Κ–Η –Φ–Β―à–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ζ–Α–Ω–Η―Ö–Η–≤–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄. - –€–Ψ–Η... –‰–Φ–Β―é –Ω―Ä–Α–≤–Ψ! –€–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Ψ! - –±–Ψ―Ä–Φ–Ψ―²–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Η, ―É–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –¥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –Ζ–Α–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –Φ–Β―à–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Ψ –Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―¹–Ω–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤–Ψ –≤–Β―¹―¨ –Φ–Α―Ö. –‰–Ζ –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―à–Κ–Α –≤―΄―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ϋ―É–Μ–Α –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄, –Κ–Ψ–Ω–Η―è ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –°―Ä–Κ–Α, –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –Μ–Η–Κ –Β–Β, ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ-―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ –Ζ–Α―¹–Κ―É–Μ–Η–Μ, –¥–Ψ –±–Ψ–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Φ–Α―è –Ζ–Α―²―΄–Μ–Ψ–Κ –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―É ―É–≥–Μ―É –¥–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―¹―è–Κ–Α. –ï―¹–Μ–Η –± –Ψ–Ϋ ―É–Φ–Β–Μ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―¨...
|
–ù–Α―É―΅–Η –Φ–Β–Ϋ―è –ë–Ψ–Ε–Β, ―É―à–Β–¥―à–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨,
–€–Ψ–Ε–Β―² ―¹―²–Α–Ϋ―É ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Φ–Ϋ–Β–Ι,
–ê ―²–Ψ –±―É–¥―É –¥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―É–Ϋ―΄–Μ―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η ―¹–Μ–Α–≥–Α―²―¨:
–û –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Ψ –Μ―é–±–≤–Η, –Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Β –±–Β―¹–Ω―Ä–Η―é―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι.
–€–Ϋ–Β –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η ―¹ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä―è―â–Β–Ι –¥―É―à–Ψ–Ι,
–û―¹–≤–Β―â–Α―è –Ω―É―²–Η, –Ζ–Α–Ε–Η–≥–Α―è ―É–Φ―΄ –Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α,
–ù–Ψ –¥―É―à–Α, –Ψ–±–≥–Ψ―Ä–Α―è, ―Ä–Α―¹―¹―΄–Ω–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Μ–Ψ–Ι,
–‰ –±―΄–Μ–Ψ–Β –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥―΄–Φ –Ψ―² –Κ–Ψ―¹―²―Ä–Α.
–ü–Ψ―â–Α–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η –Φ–Ψ–Ι, –Η–±–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ,
–‰–±–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Μ―É–Κ–Α–≤―΄–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –≥―Ä–Β―Ö–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨,
–£–Ψ–Ζ–¥―΄―Ö–Α―é―² –Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–Ϋ―΄ ―Ü–Β–Ϋ―è―² –Β–≥–Ψ,
–ù–Α―É―΅–Η –Φ–Β–Ϋ―è –ë–Ψ–Ε–Β, ―É―à–Β–¥―à–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨. –‰–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι (–†–Ψ―¹–Μ―è–Κ–Ψ–≤)
|
–½–Α–Κ―Ä–Ψ–Β―² –Μ–Η –Ϋ–Α―à–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Β –Ϋ–Α–Φ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η–Φ–Β–Β―² –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, –Η ―¹–Φ―΄―¹–Μ, –Η ―Ü–Β–Μ―¨, –Η ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, –Η ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Η –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Φ ―¹―É–¥–Ψ–Φ, –Β―¹–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―²―¹―è –Μ―é–±–≤–Η βÄ™ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η?..
–Φ–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –Γ―É―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ι
–Γ–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Μ–Η―Ü ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –¥–Μ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Ω―Ä–Η–¥–Α―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü―É –Μ―é–¥―è–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ü–Β–Μ―¨, –Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö βÄ™ –Μ–Η―à―¨ –≤ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –¥–≤―É―Ö: –Η–Μ–Η –≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤–Ϋ–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Η –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ.
–ê. –‰. –£–≤–Β–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι
–ö–Α–Κ–Ψ–≤ –±―΄ –Ϋ–Η –±―΄–Μ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Β―¹―²―¨ –Κ―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Η–≤. –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β.
–Ψ. –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –û―Ö–Μ–Ψ–±―΄―¹―²–Η–Ϋ
–ù–Η―΅―²–Ψ ―²–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥―É―Ö–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –û―² –ë–Ψ–≥–Α –Η―¹―à–Β–¥―à–Η, –ë–Ψ–≥–Α –Ψ–Ϋ –Η―â–Β―², –ï–≥–Ψ –≤–Κ―É―¹–Η―²―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Β―², –Η, –≤ –Ε–Η–≤–Ψ–Φ ―¹ –ù–Η–Φ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―è ―¹–Ψ―é–Ζ–Β –Η ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Η, –≤ –ù―ë–Φ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ–Β―² ―¹–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ –±―΄–≤–Α–Β―², –Α –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ–Β―², –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―².
―¹–≤―². –Λ–Β–Ψ―³–Α–Ϋ –½–Α―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ
|
–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –Φ–Ψ–Η –‰―Ä–Η–Ϋ–Κ–Η, –‰―Ä–Ψ―΅–Κ–Η, –‰―Ä–Κ–Η, –‰―Ä–Η―à–Κ–Η!
–Γ –î–ù–ï–€ –ê–ù–™–ï–¦–ê –ù–ê–Γ!!!

–Γ―Ä–Β–¥―¨ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Φ–Η–Μ―΄―Ö –Μ–Η―à―¨ –‰―Ä–Η–Ϋ–Α
–€―É–Ε―΅–Η–Ϋ ―¹–Φ―É―â–Α–Β―² –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Ψ–Ι,
–û–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Φ–Α,
–ö–Α–Κ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β―é –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι.
–ü―¨―è–Ϋ–Η―² –≤–Η–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö,
–‰ –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Β―² –¥―É―à―É –≥―Ä―É―¹―²―¨.
–ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö,
–™―Ä―É―¹―²―è―² –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ω―É―¹―²―¨.
–£–Α–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –‰―Ä–Η–Ϋ–Α
–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Α –≤–¥―Ä―É–≥,
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α ―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ―é –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι
–£ –Κ―Ä―É–≥―É ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Β–Ι –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥.
–Δ–Ψ―² –Ζ–Ϋ–Α–Κ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ:
–î–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Β―ë –£―΄ –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ―΄.
–Π–≤–Β―² –≥–Μ–Α–Ζ –Β―ë –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö,
–Γ–Κ–Α–Ζ–Α–ΜβÄΠ. –Γ–Μ–Ψ–≤–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄.
–‰ –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α.
–£–Α–Φ –Ω–Β―¹–Ϋ―é ―¹–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β–Ι –Ω–Ψ―ë―².
–¦―é–±–Ψ–≤―¨, –Κ–Α–Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β –≤–Β―΅–Ϋ–Α,
–•–Α–Μ―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η–¥―ë―²βÄΠ

–ü―É―¹―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–±―É–¥―É―²―¹―è –Ω–Β―΅–Α–Μ–Η,
–‰ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β ―É–Μ―΄–±–Ϋ–Β―²―¹―è –Ω―É―¹―²―¨ ―¹ ―É―²―Ä–Α,
–‰ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Β―² –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ –Μ―É―΅–Α–Φ–Η
–ù–Α –≥–Ψ–¥―΄ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α.
–•–Β–Μ–Α―é ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è,
–•–Β–Μ–Α―é –±–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Η–Μ,
–ß―²–Ψ–± –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η
–û–¥–Ϋ―É –Μ–Η―à―¨ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ.
|
|
|






 –Θ–¥–Β–Μ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η. –†–Β–¥–Κ–Η–Φ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ―΄–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Μ–Α–¥―¨―é –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―².
–Θ–¥–Β–Μ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η. –†–Β–¥–Κ–Η–Φ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ―΄–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Μ–Α–¥―¨―é –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤―É ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―².