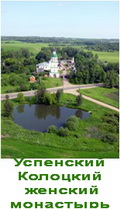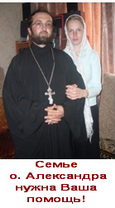–€–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –€–Β―¹–Ψ–≥–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–¥―à―É―é ―¹ –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι –Η ―¹―²–Α―Ä―Ü–Β–Φ –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Β–Φ –ö–Α–≤―¹–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–≤–Η―²–Ψ–ΦβÄΠ 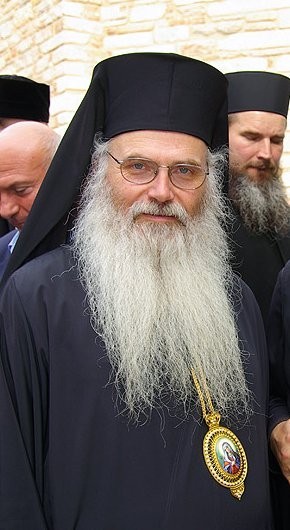 –€–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι. –Λ–Ψ―²–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –ö–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Α –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –≤–Ψ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Α―Ä–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Α –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨ –ë–Ψ–≥–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –û–Ϋ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Μ―è–Μ –Η―Ö –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Β–Φ (―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Ι –ö–Α–≤―¹–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–≤–Η―² βÄî –Ω―Ä–Η–Φ. ―Ä–Β–¥.), –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤―è―²―΄–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Α –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―² –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η―Ö –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰―²–Α–Κ, –ë–Ψ–≥ –¥–Α–Μ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Ω―è―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι (–¥–≤–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η –Η ―²―Ä–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η. –Γ―²–Α―Ä―à–Α―è βÄ™ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ï–≤–Α. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤–Α –Η –Φ―É–¥―Ä–Α, –±―É–¥―²–Ψ –Ζ―Ä–Β–Μ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ï–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –ï–≤―É –Μ―é–±–Η–Μ–Η –≤―¹–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Α –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―², ―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–Β ―¹ –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–Φ. ¬Ϊ–ë–Ψ–≥ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Β―¹―²–≤―É–Β―² –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Φ¬Μ. –· –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –ë–Ψ–≥–Α: ¬Ϊ–™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β!¬Μ. –£–¥―Ä―É–≥ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –ï–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Β―² ―É–Μ–Η―Ü―É –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²―Ü–Α, –Η –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―² –Ψ―²―Ü―É, ―΅―²–Ψ –ï–≤–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –≤ –Α–≤–Α―Ä–Η―é –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É. –û―²―²―É–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α –≤ –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä, –≥–¥–Β –Ϋ–Β―² ¬Ϊ–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Η –Ω–Β―΅–Α–Μ–Η, –Ϋ–Η –≤–Ψ–Ζ–¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è¬Μ. –½–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² –ë–Ψ–≥ –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Β―¹–Α –ï–≤―É, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Κ –Ϋ–Β–≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ―΄–Φ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Η –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Η―éβÄΠ –û―²–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Ι ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Η–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹―è ―É –ë–Ψ–≥–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –Μ―é–±–≤–Η. –Γ–Α–Φ –Ε–Β –Ψ―²–Β―Ü –Ε–Η–Μ –≤ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Β, –≤–Β―Ä–Β –Η –Μ―é–±–≤–Η –Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-–Μ–Η–±–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ë–Ψ–≥–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ―à–Η–±–Κ–Ψ–Ι. –£―Ä–Β–Φ―è ―à–Μ–Ψ. –î―Ä―É–≥–Η–Β –¥–Β―²–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹–Μ–Η, –Η –Η―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η –Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Κ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ. –Γ–Β–Φ―¨―è ―¹–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –≤–Ψ–Μ―é –ë–Ψ–Ε–Η―é. –‰―Ö –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –¥–Ψ―΅―¨, –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –ï–≤―΄: –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –±―΄–Μ–Α –Ε–Η–≤–Ψ–Ι, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹ ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι. –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Ψ–Μ–Η―Ü–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄, ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, –±–Β–Ζ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –™–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Η–Φ–Β―²―¨ ―¹ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ, –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨―é –Η ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²–Β―¹―¨ –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, ―²–Ψ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β―²–Β –≤―¹–Β –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –≤―¹–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―¹–Β ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β. –£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β –≤ –≠–Ω–Η―Ä–Β, –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄. –î―Ä―É–≥ ―¹–Β–Φ―¨–Η ―¹―²–Α–Μ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Φ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–≥―Ä–Η–≤―΄–Φ –Η –Ζ–Α–±–Α–≤–Ϋ―΄–Φ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –¥–Β―²–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―¹ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ. –û–Ϋ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α. –£―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ―è―â–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –Η –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²―¨ ―ç―²―É ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Η–≥–Α ―è –±―΄–Μ –≤ –ê―³–Η–Ϋ–Α―Ö, –Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α-―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α. - –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨―²–Β―¹―¨, –Ψ―²–Β―Ü, –≤―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è! - –ß―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β –Φ–Ϋ–Β? - –Θ –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Η –¥–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι. –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –≠–Ω–Η―Ä–Α. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄, ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Α ―Ä–Α–Κ–Α –Κ–Ψ―¹―²–Η ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η! –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≤ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨!  orthphoto.net –Λ–Ψ―²–Ψ: Tudor Codre Isac –· –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²: ―΅–Β–Μ―é―¹―²―¨ –±―É–¥–Β―² ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è. –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―²–Ψ–¥ –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –≤―¹–Β–≥–Ψ 10%! –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―¹–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤–Β―â–Β–Ι, ―è –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–≥ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α-―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α: - –ù–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄―²―¨ –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α? –ù–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Μ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ? - –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―Ä–Α–Κ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Ι ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η―Ä―É–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≥–Ϋ–Ψ–Ζ―΄ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄. –£―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É. –€―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―²–Β―Ä―è―²―¨ –Ϋ–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄! –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―è –±―΄–Μ –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Β-–±–Μ–Ψ–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Β ―¹–Β–Φ–Η –Μ–Β―², –Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –≤―¹―é –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä―É –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ï–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―É–Κ–Α –Η –Φ–Η―Ä –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨. –· –¥―É–Φ–Α–Μ: –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η ―ç―²–Ψ―² ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Β–¥―É―² –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É ―¹ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² ―¹–Α–Φ―΄–Β –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Φ–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―² –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –™―Ä–Β―Ü–Η―é ―¹ –≤–Β―Ä–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ―É―²―¹―è ―¹ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ε–Η―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –û―²–Β―Ü –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Ι, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –≤―¹―é –Ω―Ä–Α–≤–¥―É, –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –≤–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ―É, –Ψ―²―Ü―É –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ζ―è―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η –Η –±–Ψ–Μ–Η, –Η–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α. –‰ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –±―΄–Μ–Α –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Ψ–Φ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―²–Β―Ü ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Β–≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Φ―É―é –Φ―É–Κ―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –≤–Ζ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –Η ―É–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É, –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –≤ ―à―²–Α―² –û–≥–Α–Ι–Ψ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β. –£ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Φ–Β―à–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Β –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Β –Η―Ö ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –û―²–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Ι βÄ™ –Ψ–Ω–Μ–Ψ―² –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Η ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α–Φ–Η –Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –±–Β―¹―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι. –î–Β–Μ–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Β―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η―Ö –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥–Ϋ–Β–Φ –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –£―¹–Β –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ―΄ –Η ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ, –Η –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Α. –î–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –£―Ä–Β–Φ―è –≤ –™―Ä–Β―Ü–Η–Η βÄ™ 16:10. –€–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―². –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–≤―É―΅–Η―² –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η: - –û―²–Β―Ü, ―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨! –· ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨. –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ. –€–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β―² –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Φ–Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –· ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹–Ψ–Ι–¥―É ―¹ ―É–Φ–Α! –£―΅–Β―Ä–Α ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –û–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ―² –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –±―É–¥–Β―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η! –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Β. –· –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É―²―¨, ―è ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―É–Ω–Α–Μ–Α –≤ –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Κ. –· –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –≤―΄―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―²–Β―Ü, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É! –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –±―É–¥–Β–Φ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è. –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²―Ü–Α –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η―è, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Η. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹! –· –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –· –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Η–Μ ―²―Ä―É–±–Κ―É. –£―Ä–Β–Φ―è –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –≤ ―à―²–Α―²–Β –û–≥–Α–Ι–Ψ βÄî –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 8:15 ―É―²―Ä–Α. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è! –ù–Ψ –Φ–Ψ–Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Α–±―΄, ―è –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–ΙβÄΠ –€–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹―²―΄–¥–Ϋ–ΨβÄΠ –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―É. –· –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –ë–Ψ–≥–Α ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Η –¥―É―à–Η. –· –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–≥, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ ―ç―²–Η―Ö –±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Φ―É―΅–Α―é―²―¹―è, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–¥–Η –Γ–≤–Ψ–Β–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –ê –≤―Ä–Β–Φ―è ―à–Μ–Ψ. –£ 16:20 ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Φ–Α―²―¨ –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―΄ –Η–Ζ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η: - –û―²–Β―Ü, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Β. –ü–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ―É–±–Ψ–≤! –£―Ä–Α―΅–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α―¹―²–Β―², –Κ–Α–Κ ―à–Η–Ω―΄. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ, –Ψ―²–Β―Ü? –· –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ω―Ä–Α–≤–¥―É. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –≤―΄ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è. –û–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–¥―ÉβÄΠ –· ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Η–Μ ―²―Ä―É–±–Κ―É. –· –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –¥–Α–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨! –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥―Ä―É–≥―É-―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥―É –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É –≤―¹–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η. –€―΄ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―², –Ω―Ä–Ψ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²: –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ–Ζ ―Ä–Α–Κ–Α –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι –≤ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Ι ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η –±―΄–Μ ―è–≤–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –Ε–Β ―¹ ―à–Η–Ω–Α–Φ–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –Ζ―É–±–Ψ–≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Η –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Α―è. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤―Ä–Α―΅–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Μ–Ψ―Ö–Α, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ―É. –· –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―²–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Ι ―É–Ε–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―΄ –Η –Η–Φ–Β–Β―² –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é. –· –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Β–Φ―É, –Ψ―²–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±–Κ―É –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: - ¬Ϊ–€―΄ –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Η –≤ –≤–Ψ–¥―É, –Η –Δ―΄ –≤―΄–≤–Β–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É¬Μ (–ü―¹. 65:12). –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£―΄―²–Α―â–Η–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Ζ―É–± –Η –≤―¹–Β. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ζ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η―²―¨ –ë–Ψ–≥–Α –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ! - –û―²–Β―Ü, –≤―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―΄? - –ù–Β―², ―è –Β―â–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ. –· –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è. –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –£―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹ –Β–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β. –£―Ä–Α―΅–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―²–Κ–Α–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ―² ―Ä–Α–Κ–Α, –Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Η―¹―²―΄. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β―΅–Β–Μ―é―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ―É–±. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η, –Φ―΄ –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β ―΅―É–¥–Ψ, ―΅―É–¥–Ψ –Ψ–±–Β―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ë–Ψ–Ε–Η―è. –ö―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η―è. –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Η –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε. –Θ –Ϋ–Β–Β –Β―¹―²―¨ –¥–Β―²–Η, –Β–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –≤–Β―Ä―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Β–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―΅―É–¥–Ψ. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Β–Ι –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―², ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–ΨβÄΠ –Ζ―É–±. –½―É–±, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Ϋ. –‰ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Κ―²–Ψ –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―², ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ: –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –ë–Ψ–≥ –Ζ–Α―Ö–Ψ―΅–Β―². –ü–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ ―¹ ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬ΪFamilia Orthodoxa¬Μ –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –®–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α
|
–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Β–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Ψ–≤–Ψ-–Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Η –Γ–≤―è―²–Ψ-–ö–Ψ―¹―¨–Φ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η ―¹―Ö–Η–Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ (–†–Β–Ι–¥–Φ–Α–Ϋ) –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –±–Β―¹–Β–¥―΄ –Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η –Η –Φ–Η―Ä―è–Ϋ–Α–Φ–Η. –≠―²–Η –±–Β―¹–Β–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Η―¹―¨: –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²–Α–Φ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄: –Κ–Α–Κ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―è–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ ―²–Β–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄–Φ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ë–Β―¹–Β–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α―Ö ¬Ϊ–ë–Β―¹–Β–¥―΄ ―¹ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α–Φ–Η¬Μ –Η ¬Ϊ–ë–Μ–Α–≥–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨¬Μ, –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –≤–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―è ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è (–€–Α―à–Κ–Ψ–≤–Α), ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β. –· –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Η –Ϋ–Β–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ, –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅―É ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―², ―²–Ψ ―²―É―² –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―É ―ç―²―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨, –Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ϋ–Α –Μ–Α–¥. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―è –Ϋ–Α―à–Β–Μ –≤ ¬Ϊ–¦–Β―¹―²–≤–Η―Ü–Β¬Μ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –¦–Β―¹―²–≤–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Β―¹―²―¨ –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι, –Η –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ―¹―è –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –≤―¹–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Β, ¬Ϊ–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Φ–Α―Ö–Ψ–Φ ―¹–Β–Φ–Β―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ–±–Η–≤–Α―Ö–Ψ–Φ¬Μ. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β―²―¹―è –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤ –Ω―Ä–Β―²–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Η ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É. –≠―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ ―¹ –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η, –Η–Ζ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α. –ù–Ψ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –Ψ―²―Ü―É –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―é ―¹ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β?¬Μ βÄî –Η –Ψ–Ϋ –¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ. –û–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Β―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –· ―ç―²–Η–Φ–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –±―΄–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É?!¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –û–Ϋ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―è ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è, –Η –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä. –ê ―¹–Ω―É―¹―²―è –≥–Ψ–¥―΄ ―è –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ –Η –Β―¹―²―¨: ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è, –Α –Ϋ–Α –ë–Ψ–≥–Α, –Η ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –û―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―²–Α–Κ –Ψ―² –Ψ–Ω―΄―²–Α, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ.  –€―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ö―É–Ε–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Φ–Η―Ä―è―²―¨―¹―è, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―¹―è ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ. –Γ–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β βÄî –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Α–Β―² ―¹–Β–±―è, –Α –≤ –¥―É―à–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Β―². –ù–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è. –ï―¹―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ω―Ä–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α. –û–Ϋ ―²–Α–Κ ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Μ–Η―΅–Α–Μ ―¹–Β–±―è –≤ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η –Β–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Η–Μ―¹―è. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β? –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Β, –≤–Β–¥―¨ ―É –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ –±―΄–≤–Α―é―² –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η. –€―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ: βÄ€–î–Α, ―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–ΚβÄù βÄî –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―ç―²–Ψ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ, –Η–Μ–Η: βÄ€–· –Φ–Α–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, –Φ–Α–Μ–Ψ ―΅–Η―²–Α―éβÄù. –ï―¹–Μ–Η ―²–Ψ―², –Κ –Κ–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β, ―²–Ψ –Φ―΄ –≤–Β–¥―¨ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Η–Φ―¹―è, –Ϋ–Α–Φ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è. –£ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ ―¹–Β–±―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Φ–Η, –Φ–Α–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α―Ö –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―¹–Η―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―² –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨―é. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Φ―΄ ―Ö–≤–Α―¹―²–Α–Β–Φ―¹―è, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―É–Ε–Η―Ü–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –≤―Ä–Ψ–¥–Β: βÄ€–· –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–ΙβÄù, –Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ –Ψ–±―â–Α–Β–Φ―¹―è, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: βÄ€–î–Α –Ϋ–Β―², ―²―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–ΙβÄù. βÄî βÄ€–ù–Β―², ―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–ΙβÄù. βÄî βÄ€–î–Α –Ϋ–Β―², ―²―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–ΙβÄù. βÄî βÄ€–ù–Β―², ―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–ΚβÄù. βÄî βÄ€–î–Α –Ϋ–Β―², –Ϋ―É ―΅―²–Ψ ―²―΄βÄù. –ù–Α–Φ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è. –€–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ, –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―²–Α–Κ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä: βÄ€―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–ΚβÄù –Η–Μ–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ―è–Μ–Η, –Η–Μ–Η ―É–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Η, –Η–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Κ–Α–Κ ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ, –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ. –û–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –Β–≥–Ψ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ, ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η–Μ–Η. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –≤ ―¹–Α–Ϋ–Β –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Α (–Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ, –Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ ―¹–Α–Ϋ –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Α). –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Β–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Β―Ö–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–±―É βÄî –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ë―΄–Μ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ –Η, –Ω–Ψ ―É―¹―²–Α–≤―É, –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü―É. –®–Β–Μ –Ω–Ψ―¹―². –ü–Β–Μ–Η ―²―Ä–Ψ–Ω–Α―Ä―¨ βÄ€–Γ–Β, –•–Β–Ϋ–Η―Ö –≥―Ä―è–¥–Β―² –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―â–ΗβÄΠβÄù, –Η –≤―¹–Β –±―Ä–Α―²―¨―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―Ö―Ä–Α–Φ–Α. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–±―É, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Ζ―è–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―É, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Φ–Α–Ϋ―²–Η―é –Η –¥–Α–Ε–Β, –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –Κ–Μ–Ψ–±―É–Κ. –ù–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α―²―¨, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Η –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤―΄–Ι―²–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –±―Ä–Α―²―¨―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―É ―Ö―Ä–Α–Φ–Α: –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±―Ä–Α―²–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―΄–Φ, –Μ―é–±―è―â–Η–Φ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –û–Ϋ –Η –≤―΄―à–Β–Μ, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Φ–Α–Ϋ―²–Η–Η. –‰ ―²―É―² –Ϋ–Α–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Β–Φ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: βÄ€–Δ―΄ –Κ–Α–Κ –‰―É–¥–ΑβÄù. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β: ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η–Φ–Β–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α–¥, ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –±―΄–Μ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤ –≤–Β―Ä–Β, ―¹ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―² –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –™–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η, –≥–¥–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ–Α. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Η –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Β–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Ϋ―É―²―¨, –¥–Α–Ε–Β –≤ ―΅–Β–Φ-–Μ–Η–±–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Φ. –‰ –Β–Φ―É, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β–Ι –±―Ä–Α―²–Η–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: βÄ€–Δ―΄ –Κ–Α–Κ –‰―É–¥–ΑβÄù! –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―¹–Α–Φ –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι. –· ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Μ―¹―è: βÄ€–ö–Α–Κ –Ε–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–≥ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨?βÄù –ê –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: βÄ€–î–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–ΙβÄù, –Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹–Β―Ä–¥–Η–Μ―¹―è. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ―²―Ü–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è ―É–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Η, –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ―è–Μ–Η. –ê –Ψ–Ϋ, –Β―¹–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ―¹―è, ―²–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Ψ–±–Η–¥–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α. –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Η–¥–Β―²―¨―¹―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι, –Α –≤–Ψ―² –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ζ–Μ–Ψ βÄî ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –û–± –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Φ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―Ü–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η. –ö–Α–Κ-―²–Ψ ―è –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ –Η –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β (–Ζ–Α–±―΄–Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è). –ë―΄–≤–Α–Β―² ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ: –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―é―² –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä―É–±–Α―Ö―É, –Ψ–±–Φ–Α―²―΄–≤–Α―é―² –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β. –Γ―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―Ö–Β –Η–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ε–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –≤―¹–Β ―à–Μ–Α–Κ–Η. –£ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι, –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–Β―¹―²―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α, –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Α―²―΄–≤–Α―²―¨, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―²―΄–≤–Α―²―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―¹ –Φ–Ψ―΅–Ψ–Ι –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Β―¹―²–≤–Α. –‰ –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β–¥―Ä–Ψ (―¹–Α–Φ ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―²―É–Α–Μ–Β―²–Α –≤ ―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ). –û–Ϋ βÄî –Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è, –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ –Η, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β ―¹―²―΄–¥–Η–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Η –¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –±―΄ ―è –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―², –Α –Ψ–Ϋ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Κ ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Η: –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –±―Ä–Α–Μ –≤–Β–¥―Ä–Ψ –Η –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ. –û ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―Ü–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―é, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨: βÄ€―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–ΚβÄù, βÄ€―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–ΙβÄù, βÄ€―è –Ϋ–Β–≤–Β–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–ΙβÄù. –û–Ϋ –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –±―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Η ―¹–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è, ―¹–Φ–Η―Ä―è–Μ―¹―è. –≠―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Ψ ―É –Ψ―²―Ü–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ, –Ϋ–Ψ –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –ë–Ψ–Ε–Η–Η–Φ. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –· –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―é ―¹–Β–±―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―²–≤–Α―Ä―¨―é. –ö–Α–Κ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Μ–Η ―ç―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ? –û―²–≤–Β―². –· –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―²–Α–Κ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―à―¨. –‰–Ϋ–Α―΅–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ. –ö―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–Β–±―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Φ –Η –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―²–Ψ―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Η –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨, –Ϋ–Η –Ζ–Μ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―²―¨, –Ϋ–Η ―É–Κ–Ψ―Ä―è―²―¨ –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ–Η–Φ –≤ ―É–Φ–Β, –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ βÄî –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―ç―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Α–≤–≤–Α –î–Ψ―Ä–Ψ―³–Β–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―²–Α―Ä―Ü―É βÄî –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η―é –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–Β–±―è ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β–Ι ―²–≤–Α―Ä–Η, ―²–Ψ―² –Β–Φ―É –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: βÄ€–≠―²–Ψ, ―¹―΄–Ϋ –Φ–Ψ–Ι, –¥–Μ―è ―²–Β–±―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ βÄî ―²–Α–Κ –¥―É–Φ–Α―²―¨βÄù. –ù–Ψ –Α–≤–≤–Α –î–Ψ―Ä–Ψ―³–Β–Ι, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι, –±―΄–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Ψ ―΅–Β–Φ –Η–¥–Β―² ―Ä–Β―΅―¨. –û–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è: βÄ€–î–Α, –Ψ―²―΅–Β, ―ç―²–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―è –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –±―΄ ―²–Α–Κ –Ψ ―¹–Β–±–Β –¥―É–Φ–Α―²―¨βÄù. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ι –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É: βÄ€–£–Ψ―² ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²―΄ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω―É―²―¨ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―èβÄù. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Α–≤–≤–Α –î–Ψ―Ä–Ψ―³–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–Β–±―è ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι ―²–≤–Α―Ä–Η, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Β–Φ―É ―²–Α–Κ –¥―É–Φ–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ. –û–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–Β–±―è –Ψ―¹–Μ–Ψ–Φ. –£ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É –Α–≤–≤–Β –½–Ψ―¹–Η–Φ–Β –Ψ–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: βÄ€–· –Ψ―¹–Β–ΜβÄù. –ê ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –Β–Φ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: βÄ€–Δ―΄ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―à―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Α ―²–Α–Κ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Α–≤–≤–Α –½–Ψ―¹–Η–Φ–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ψ―¹–Μ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –≤ –≤–Η–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Ψ―¹–Β–Μ, –≤―¹–Β –≤―΄―²–Β―Ä–Ω–Η―², –Α ―²―΄ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―²–Β―Ä–Ω–Η―à―¨βÄù. –ù–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Ψ, –Μ―É―΅―à–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―É ―²–Β–±―è –Ϋ–Β―² ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅–Β–Φ ―²–Α–Κ–Α―è –≤–Ψ―² –Η–≥―Ä–Α: βÄ€―è –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è ―²–≤–Α―Ä―¨βÄù. –· ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Η―², –Ϋ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é ―¹–Β–±–Β ―ç―²–Ψ –¥–Μ―è ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. βÄ€–ê―Ö ―²―΄ –¥―É―Ä–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ε ―²―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ?βÄù (–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, ―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ). –ß―²–Ψ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ? –≠―²–Ψ –Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é ―¹–Β–±―è –≥–Μ―É–Ω―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, ―è –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Φ–Ϋ–Β–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö. –ï―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Β–±―è ―É–Κ–Ψ―Ä―è–Β–Φ, –Φ―΄, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ ―ç―²–Ψ ―à―É―²―è –Η –Μ―é–±―è. –ù–Β ―²–Α–Κ –Μ–Η? –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Η–≥―Ä–Α―²―¨. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ . –Γ–≤―è―²―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β―Ö. –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η―΅―¨? –‰ –Β―â–Β: ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β? –û―²–≤–Β―². –¦–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–¥. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―ç―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β: ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ –Η ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β―Ö, –Α –Β―¹–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―è―², –Ψ–Ϋ ―²―É―² –Ε–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β―²―¹―è –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Α. –£-―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―² –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ζ–Α―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³―Ä–Α–Ζ―΄, –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ –Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö –Ψ―²―Ü–Ψ–≤ –Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥―É–Φ–Α–Β―² ―²–Α–Κ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―ç―²–Η―Ö ―³―Ä–Α–Ζ –¥–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―². –‰–Ζ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Μ–Α―è¬Μ, –Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤―¹–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è, –Φ―΄―¹–Μ–Η―² ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ: –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ βÄî –±―É–¥―¨ ―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –Η–Μ–Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Β. –î–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, ―²―΄ –≤―΄―΅–Η―²–Α–Μ ―É –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –Γ–Η–Ϋ–Α–Η―²–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β―Ö. –Δ―΄ ―Ö–Ψ–¥–Η―à―¨ –Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―à―¨: ¬Ϊ–· ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β―Ö¬Μ, –Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―²–≤–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Α–Β―²―¹―è ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―²―΄ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨. –Δ–≤–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–Β, ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Φ–Β―΅―²–Α–Β―à―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β. –ï―¹–Μ–Η ―²―΄ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―²―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –Δ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –Ϋ–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –Ϋ–Β–Φ, –Α ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –±―É–¥–Β―². –‰ –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², ―²―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ¬Ϊ–Ω―Ä–Α―Ö –Η –Ω–Β–Ω–Β–Μ¬Μ, –Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ –î–Α–≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ¬Ϊ―΅–Β―Ä–≤―¨, –Α –Ϋ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ¬Μ, –Α –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö –±―É–¥–Β―à―¨ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨: ¬Ϊ–£–Ψ―², ―è ―΅–Β―Ä–≤―¨, –Α –Ϋ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –£–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Β―Ä–≤–Η, –Α ―è –¥―É–Φ–Α―é. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Β―Ä–≤–Η, –Α ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ¬Μ. –ù–Β ―¹―²–Ψ–Η―² ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Α―²―¨. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –¥–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α. –¦―é–±–Α―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Η ―É–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–≤―à–Α―è―¹―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨ –Β―¹―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η. –ù–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–±―è –Κ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―É―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Η –Ψ―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ ―¹―²―è–Ε–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α. –£―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ βÄî –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β, –Ω―É―¹―²―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β. –ê –≤–Ψ―² ―¹ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β–±―è –Κ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―É―²–Α―²―¨―¹―è –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Κ –Α–Κ―²–Β―Ä―¹―²–≤―É. –€―΄ –Η ―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Φ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è: –±―É–¥–Β–Φ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –¥–Α–Ε–Β, –Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β, ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî –Ϋ–Α–Ι―²–Η –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ―²―É –Φ–Β―Ä―É ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―²―΄ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ, –Α ―É–Ε–Β –Ψ―² –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨ –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Φ―É.
|
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β–Φ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η―é –±–Β―¹–Β–¥ ―¹―Ö–Η–Α―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―²–Α –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ–Α, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ-–Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –≥.–ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–±―É―Ä–≥–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β―¹–Β–¥–Β ―Ä–Β―΅―¨ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤–Η–¥–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η ―²―â–Β―¹–Μ–Α–≤–Η―è βÄ™ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Η. –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Β–Φ―¹―è, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β? –≠―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –±–Ψ―è–Ζ–Ϋ―¨ –Μ–Η―à–Η―²―¨―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α–Ϋ–Η―é. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Κ–Α–Ε―É―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―É–Ε ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Β―Ö. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Φ―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β–Φ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Κ–Α–Ε―É―²―¹―è –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η. –ù–Β–¥–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β–Φ –Φ―΄ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η. 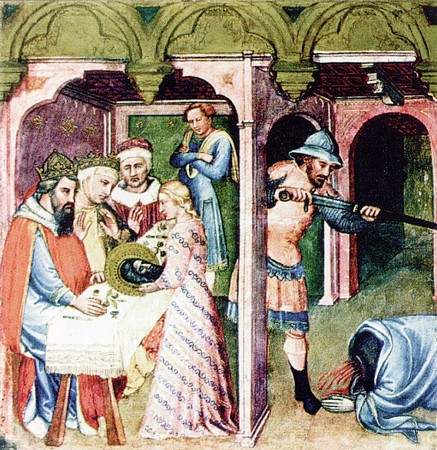 –‰–Ζ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―è –‰―Ä–Ψ–¥ ―É–±–Η–Μ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –Η –ü―Ä–Β–¥―²–Β―΅―É –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –£―¹–Β–Φ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Α ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è: –Φ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―¹―è –≤ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ–Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, –Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―à―É―²–Η―², –±–Ψ–Μ―²–Α–Β―², –Η –Φ―΄, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ ―Ö–Α–Ϋ–Ε–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –±–Ψ–Μ―²–Α―²―¨. –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Φ―΄, –≤–Β–¥―è ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β. –€―΄ ―¹―Ä–Α―¹―²–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Α―¹–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Β–Φ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è, ―²–Β―Ä―è–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Α –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β–Φ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ–Η–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Ω―É―¹―²–Ψ―à–Α–Β―². –ë―΄–≤–Α–Β―² –Η ―²–Α–Κ: –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ϋ–Α–Φ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –ê –Φ―΄, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Ι―²–Η –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β ―É–Ϋ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―²―¨―¹―è ―É―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Ψ―² –Ϋ–Β –≥―Ä–Β―à–Η–Μ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Κ–Η–≤–Α―²―¨, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ψ―² ―¹–Β–±―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è―²―¨. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Μ―é–±–≤–Η –Η ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―è –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Φ―΄ ―É–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―è–Φ, ―É―¹―É–≥―É–±–Μ―è–Β–Φ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Α –Β―â–Β –Η ―¹–Α–Φ–Η –≥―Ä–Β―à–Η–Φ. 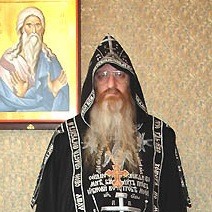 –Γ―Ö–Η–Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ (–†–Β–Ι–¥–Φ–Α–Ϋ) –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥―É–Φ–Α–Β―² –Ϋ–Β –Ψ–± ―É–≥–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ–≥―É, –Α –Ψ–± ―É–≥–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Μ―é–¥―è–Φ, –Β―¹–Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –≥–¥–Β ―Ü–Β–Ϋ―è―² ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η, –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η βÄî –Ω–Ψ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η. –ê –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―², ―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è ―É–≥–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Φ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ βÄî ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, ¬Ϊ–Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι¬Μ. –£ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç―²–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α ―Ü–Β–Ϋ―è―², –Β–Φ―É ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η: –Φ–Ψ–Μ, –Η ―è –Ϋ–Β –Μ―΄–Κ–Ψ–Φ ―à–Η―². –ê –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Κ―Ä–Ψ―²–Κ–Η―Ö –Β–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Κ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ. –ö–Α–Κ –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Η ―²–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β! –ù–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É–Φ―É–¥―Ä―è―é―²―¹―è ―É–≥–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤―¹–Β–Φ: ―²―É―² –Ε–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Η ¬Ϊ–Κ―Ä―É―²–Η–Ζ–Ϋ―É¬Μ –Η –Κ―Ä–Ψ―²–Ψ―¹―²―¨, ―²―É―² –Ε–Β –Η –Φ–Η–Μ–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Η–Β –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ –Ω–Α–Μ–Β―Ü –≤ ―Ä–Ψ―² –Ϋ–Β –Κ–Μ–Α–¥–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–≤–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É―². –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Κ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ. –£ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―¹–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―¹ ―Ä―É–Κ, –Α –≤ –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö βÄî –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β―² –Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Β–Μ–Η. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ―΄ –Η–Ζ ―²―â–Β―¹–Μ–Α–≤–Η―è –±―É–¥–Β–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –±–Ψ–≥–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―² –≤–Β―Ä―É―é―â–Η–Β –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç―²–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―è―². –ê –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Φ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β–Φ―¹―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –±–Β–Ζ–±–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Η–Ζ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―è –Ψ―²―Ä–Β―΅–Β–Φ―¹―è –Ψ―² –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –¥―É―Ä–Α–Κ–Η –Η ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Η. –½–Α―Ö–Ψ―²–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η ―ç–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Η –Ϋ–Β –≥–Μ―É–Ω–Β–Β, ―΅–Β–Φ –ß–Α―Ä–Μ―¨–Ζ –î–Α―Ä–≤–Η–Ϋ. –ö–Α–Κ –Φ―΄ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Κ–Α–Ε–Β–Φ―¹―è –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö? –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Φ―΄ –Η–Ζ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―è –±―É–¥–Β–Φ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η ¬Ϊ–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–¥–Ψ–±―Ä―è―é―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –≥–¥–Β –Φ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨. –ê ¬Ϊ–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η¬Μ ―ç―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η. –€–Η―Ä ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –±–Β–Μ―΄–Φ, –Α –±–Β–Μ–Ψ–Β βÄ™ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Α –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹―²―΄–¥–Ϋ―΄–Φ. –†–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ö–≤–Α―¹―²–Α―é―²―¹―è –±–Μ―É–¥–Ψ–Φ? –†–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ö–≤–Α―¹―²–Α―é―²―¹―è ―²–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–Ω–Η–Μ–Η –≤–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Κ–Α–Κ –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ? –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Α―¹ –Η–Ζ―É–Φ–Μ―è―é―² –Η ―É–Ε–Α―¹–Α―é―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η –Ψ―²–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ―² –≤–Β―Ä―΄ –Η –Ϋ–Α–Φ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –¥–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –†–Ψ―¹―¹–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι, –Η –≤―¹–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Η –≤–¥―Ä―É–≥ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –≤ –ë–Ψ–≥–Α –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―²―¨, –Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –≤–Φ–Η–≥ –Ψ―²–Ω–Α–Μ–Α –Ψ―² –≤–Β―Ä―΄. –¦―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ βÄî ―²–Β –Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Μ―é–¥–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Β, –¥–Η–Κ–Η–Β –Η–Ζ―É–≤–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Η –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ε–Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Η―è ―Ä–Α–¥–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Η–Ζ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è. –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É–≤–Β―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –ù–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–¥–Η ―³–Α―Ä–Η―¹–Β–Β–≤ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ –Ψ―²–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² ―¹–Η–Ϋ–Α–≥–Ψ–≥–Η, –Η–±–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ―é–±–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Μ–Α–≤―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ―É―é, –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Η ―¹–Μ–Α–≤―É –ë–Ψ–Ε–Η―é¬Μ (–‰–Ϋ. 12, 42βÄ™43). –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β? –¦―é–¥–Η ―É–≤–Β―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –‰–Η―¹―É―¹ –Β―¹―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹, –Ω–Ψ–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –û–Ϋ –Β―¹―²―¨ –Γ―΄–Ϋ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι. –ù–Ψ ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ι, ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ –Ψ―²–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, βÄî ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –±–Β―¹―΅–Β―¹―²–Η―è, –≤–Β–¥―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–¥–Α –Η–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η βÄî ―Ä–Α–¥–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –Ψ―²―Ä–Β–Κ–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –ù–Β–≥–Ψ. –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ–Α―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è, –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, –≥―É–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β! –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è ―É–≥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ―é–¥―è–Φ, ―²–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É βÄ™ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ε–Β. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è ―É–≥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –ë–Ψ–≥―É, –Ϋ–Β –±–Ψ―è―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É –Ψ―² –ù–Β–≥–Ψ. –‰ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Β―¹―²―¨ –≤ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Η. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ –½–Α–Κ―Ö–Β–Ι, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ―΄―²–Α―Ä–Β–Ι, –≤–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α ―¹–Φ–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η―Ü―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Β–Β. –•–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ε–Α–Ε–¥–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≥―Ä–Β―Ö–Α–Φ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–≥ –Μ―é–¥―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Η–Ζ―É–Φ–Η–Μ–Ψ –±―΄. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨, –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Ι ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Η―é, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â―É―é, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α, –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –±―΄ –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Μ –±―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨: –Ω–Ψ–±–Ψ―è–Μ―¹―è –±―΄ –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Β–Κ, –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α. –ê –½–Α–Κ―Ö–Β–Ι, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―ç―²–Ψ. –‰ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ε–¥–Α–Μ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –Η –Ψ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ. –Γ―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤–Β, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―é, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Β―à–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Α―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ–Η. –†–Α–¥–Η ―ç―²–Ψ–Ι ―²―â–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι, –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η –Η–¥―É―² –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –ï―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ–Α: ¬Ϊ–ù–Α –Φ–Η―Ä―É –Η ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―É –Μ―é–¥–Β–Ι, ―Ä–Α–¥–Η –Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―΄, –¥–Α–Ε–Β –Η ―É–Φ–Β―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ. –¦―é–¥–Η –Ε–Β―Ä―²–≤―É―é―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, –Ϋ–Ψ –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, ―Ü–Β–Μ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―²―¨―¹―è. –û–Ϋ–Η ―²–Β―Ä–Ω―è―² –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η, –Ε–Η–≤―É―² –≤ –Ϋ–Η―â–Β―²–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Μ–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ―΄, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥―è―²―¹―è ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²–Β ―¹―²–Α―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Φ–Η, –Η –Φ–Β―΅―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –Η–Φ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―². –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ –Η–Ζ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ―²―Ü–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α βÄ™ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Β –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Β –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Β. –û–¥–Η–Ϋ –û–Ω―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ι, –±―É–¥―É―΅–Η –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Φ, ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é –Η –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ψ –Β–≥–Ψ ―É–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Β–Φ―É –≤–Ψ ―¹–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β: –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―É–Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ω–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ–Α―è, –Η –≤―¹―è –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –≥―Ä―É―¹―²―¨―é –Η ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―΅―É―â–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ ―à–Β–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ. –‰ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ι, –Κ–Α–Κ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ ―¹–Ϋ–Β, –¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―² –Β–≥–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅, –Α –≤―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Α―¹ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―è―é―²?¬Μ –ê ―²–Ψ―² –Β–Φ―É –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² ―¹ –Ϋ–Β–≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –≥―Ä―É―¹―²―¨―é: ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α? –ù–Α ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ–Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨?¬ΜβÄΠ –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ―¹–Μ–Α–≤–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è: –≤ ―¹–≤–Β―²–Β –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄, –≤ ―¹–≤–Β―²–Β –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è –Ψ–Ϋ–Α βÄ™ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Β –Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η ―¹–Μ–Α–≤―É –ë–Ψ–Ε–Η―é, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―é, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―è –Ϋ–Η –Ψ ―΅–Β–Φ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω―É―¹―²–Ψ–Φ, –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―¹―É–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ? –£–Β–¥―¨ –Ω―É―¹―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α―¹ –±―É–¥―É―² –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Η ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α―¹―²―¹―è –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―² –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≥–¥–Β –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η―è–Φ –±―É–¥–Β―² –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η¬≠―¹–Η–Φ―΄–Φ–Η –Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Γ–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι¬≠ –Η–Φ–Β–Μ ―¹–≤–Ψ―é, –Ψ―¹–Ψ–±―É―é ―²–Ψ―΅–Κ―É –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Η –≤―¹―ë ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ¬≠–¥–Η–Φ–Α¬≠ –Ϋ–Β –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Α―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Α ―¹–Α–Φ–Ψ¬≠―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β–Φ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –½–Α–Κ―Ö–Β―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―² –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–≥–Α–Μ ―²–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η―²: ¬Ϊ–¦–Β–≥–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –½–Α–Κ―Ö–Β―é βÄî –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨ –Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Η –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ε–Β–Μ–Α–Μ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –ï–≥–Ψ. –‰ –Φ―΄ –±―΄ –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –ï–≥–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Η –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–¥–Β―¹–Ϋ―É―é –ë–Ψ–≥–Α –û―²―Ü–Α¬Μ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ–Α. –€―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ βÄî –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ βÄî –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –½–Α–Κ―Ö–Β―é. –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ ―¹–Ψ–Ζ–Β―Ä―Ü–Α―²―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹ –ù–Η–Φ, ―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –½–Α–Κ―Ö–Β―é, –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ–Μ–Β–Ω―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Α ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η―² –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η, ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Φ―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―¹–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―²–Ψ–Μ–Ω–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―΄―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ―¹―è ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –ï–Φ―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é. –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–¥–Β―² –≤ –Ϋ–Α―à―É –¥―É―à―É. *** –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –ö–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―à―¨ –Μ–Η ―²―΄ –Ω–Ψ –Μ―é–±–≤–Η –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―é? –û―²–≤–Β―². –≠―²–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ―²–Α–Κ–Α–Β–Φ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―è–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹ –Ω―É―¹―²―΄–Φ–Η, –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –¥―Ä―É–Ε–Β–Μ―é–±–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ βÄî –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –Ψ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ω–Ψ –¥–Β–Μ―É, –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –Η–Μ–Η –Η―â–Β―² –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Α ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ (–Η –Η–Φ–Β–Β―à―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄ –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö), ―²–Ψ, –Ψ―²–≤–Β―²–Η–≤, ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―à―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –ö–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―²―¹―²–Ψ–Η―² –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Ψ―² –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É? –û―²–≤–Β―². –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –≤ –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é. –ê –Κ–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²―¹―²–Ψ–Η―²? –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α¬Μ βÄî ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β: –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –≤ ―²–Β―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―²―¨ ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨. –ë―΄–≤–Α–Β―², ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Α, –Α –Φ―΄ –Ω–Ψ―²–Α–Κ–Α–Β–Φ –Β–Φ―É, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –Η –≤–Η–¥–Η–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²―΄. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Β―² ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –‰–≥–Ϋ–Α―²–Η–Ι –≤ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η ¬Ϊ–û –Μ―é–±–≤–Η –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É¬Μ. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―è. –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α ―΅–Η―¹―²–Α –Ψ―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―è, –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η―â–Β―² ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄: ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥―É–Φ–Α–Β―² –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η–Μ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Β–Φ―É –Μ―é–¥―è―Ö. –ï–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–≤–Η―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ βÄî ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Φ―É, –¥―Ä―É–≥―É –Η–Μ–Η –≤―Ä–Α–≥―É. –ê –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –ë–Α―²―é―à–Κ–Α, –Φ–Β–Ϋ―è –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Α―é―² –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―è ―Ö–Ψ–Ε―É ―¹ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ. –ö–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ ―¹ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è―²―¨ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η? –û―²–≤–Β―². –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―Ü–Α –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ψ―²–Ω–Β―΅–Α―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β, –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―¹―É–Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Η–Φ–Η–Κ―É, –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É ―¹–≤–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Η –≤–Β―¹―²–Η ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ. –ï―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨: ¬Ϊ–ù–Β –Ψ–±–Η–¥–Η¬Μ, –Α –Φ―΄ –Β–Β –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–±–Η–¥–Β―²―¨―¹―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ù–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Α―²―¨, –Ω―É―¹―²―¨ ―É –≤–Α―¹ –±―É–¥–Β―² ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤–Β―¹―²–Η ―¹–Β–±―è –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –€–Β–Ϋ―è –Μ―é–¥–Η ―Ö–≤–Α–Μ―è―², –Η ―è ―²―â–Β―¹–Μ–Α–≤–Μ―é―¹―¨ –Η –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ –Ω―É―¹―²―è–Κ–Α–Φ. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ: –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ ―é―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ―é–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η. –ö–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –±―΄―²―¨? –û―²–≤–Β―². –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ϋ–Β ―é―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –°―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥, ―²―Ä–Β–±―É―é―â–Η–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É¬≠–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η―è, –Η –±–Β―Ä―É―²¬≠ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―é –ë–Ψ–Ε–Η―é. –ê –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ―² ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―é―Ä–Ψ–¥–Η–≤―΄–Φ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Μ–Η―à–Α–Β―²―¹―è ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Κ–Α. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ –Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ? –£–Β–¥―¨ –Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β, –Μ–Β―¹―²―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ψ–Κ―Ä–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Η ―¹–Β–±―è –Η ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Φ. –û―²–≤–Β―². –ï―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ –±–Ψ―è―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –¥―É–Φ–Α―é―², –±―É–¥―²–Ψ –≤–Β–¥―É―² ―¹–Β–±―è –±–Β―¹–Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥―Ä―É–±―è―². –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ ―è –±―΄ –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–Α–Ε–Β –Μ–Β―¹―²―¨, –Μ–Η―à―¨ –±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ω–Ψ-–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ―É, –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ. –£ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –≤―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―²–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Α―à–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, ―²–Ψ ―΅–Β–Φ –≤―΄ –Μ―É―΅―à–Β ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤?¬Μ (―¹–Φ. –€―³. 5, 47). –û–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β¬Μ βÄî –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β. –€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Μ―é–±–≤–Η. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹ ―²–Β–Φ–Η, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨―¹―è, ―É―΅–Η―² –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É. –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Μ–Η―Ü–Β–Φ–Β―Ä–Η–Φ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β–Φ, βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –≤―΄ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²–Β –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–û―²–Β―Ü –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ, –≤―΄ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ, –≤―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β ―¹ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Ψ –¥–≤―É―Ö-―²―Ä–Β―Ö ―¹–Α–Ϋ―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤¬Μ, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Ψ. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ―É ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–Φ―É –Μ―¨―¹―²–Η―²―¨. –ê ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É–Β―à―¨―¹―è, ―ç―²–Ψ –Η –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
|
–ù–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―² ―¹―Ö–Η–Α―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ (–†–Β–Ι–¥–Φ–Α–Ϋ), –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Ψ–≤–Ψ-–Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –≤ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–±―É―Ä–≥–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –±–Β―¹–Β–¥―΄ ―¹ –Φ–Η―Ä―è–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β―¹–Β–¥–Β –Ψ. –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Β―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≥–Ϋ–Β–≤, –Κ–Α–Κ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –Η –≤ –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –≥–Ϋ–Β–≤ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Β–Ϋ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ. –ù–Α―΅–Α―²―¨ ―ç―²―É –±–Β―¹–Β–¥―É ―è ―Ö–Ψ―΅―É ―¹ –¥–≤―É―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –û–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―΄–Ϋ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –≤―¹–Ω―΄–Μ―¨―΅–Η–≤―΄–Ι, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ü―Ä–Η―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ. –ë―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β ―¹ –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Μ―¹―è, ―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é: ¬Ϊ–ù―É, –Κ–Α–Κ –Ε–Β ―²―΄ –Ϋ–Β ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è? –½–Α―΅–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ –≥―Ä―É–±–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ ―¹ ―²–Β–Φ-―²–Ψ?¬Μ –ê –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –≤ –Ψ―²–≤–Β―², ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –≤―΄! –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –≥―Ä―É–±–Ψ?! –€―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ –¥―Ä―É–≥ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η¬Μ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι. –· –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –Κ –≤–Β―Ä–Β –Η–Μ–Η ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ι, ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―É―é –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―É. –ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ζ―ç–Ϋ-–±―É–¥–¥–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η: –Ϋ–Β –Ψ–Ϋ –Β–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –≤–Β―Ä―É, –Α –Ψ–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ βÄî –≤ ―¹–≤–Ψ―éβÄΠ –‰–Ζ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –≤–Α–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Κ ―΅–Β–Φ―É ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ ―ç―²–Η –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄. –ü–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Β. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β? –Γ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ βÄî –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Γ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨ –≥–Ϋ–Β–≤? –ü–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Μ―é–¥–Η –≤–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ –¥–≤–Β –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–¥–Ϋ–Α –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –≥–Ϋ–Β–≤–Β, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ –±―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö: ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η, –Ζ–Μ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Η, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£―²–Ψ―Ä–Α―è –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ϋ–Β–≤–Α –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ –Η –Η–Ζ–±–Β–≥–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β. –û–±–Β ―ç―²–Η –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ?  –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Β. –≠―²–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤ –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –£ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α–Β―²―¹―è –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β–Φ –Ζ–Μ–Ψ–±–Α –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ―΄, –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨―é –≥–Ϋ–Β–≤–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–Β –≤ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Β–Φ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ –Ψ―² ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β: –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Μ, ―²―΄ –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β–Φ―¹―è: ¬Ϊ–î–Α –≤―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β! –≠―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄî –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―²¬Μ. –‰–Μ–Η: ¬Ϊ–£―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―É–¥–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ–Α―è –±―΄–Μ–Α ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Β―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è?!¬Μ –ê –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β―² –≤ ―¹–Β–±–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≥–Ϋ–Β–≤–Α, –Β–Φ―É –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Β–±―è –≤–Β–¥–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Β βÄî ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η! βÄî –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Η–Ε–Α―é―²―¹―è. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Β. –≠―²–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤ –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –£ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α–Β―²―¹―è –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β–Φ –Ζ–Μ–Ψ–±–Α –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ―΄, –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨―é –≥–Ϋ–Β–≤–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–Β –≤ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Β–Φ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ –Ψ―² ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β: –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Μ, ―²―΄ –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β–Φ―¹―è: ¬Ϊ–î–Α –≤―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β! –≠―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄî –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―²¬Μ. –‰–Μ–Η: ¬Ϊ–£―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―É–¥–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ–Α―è –±―΄–Μ–Α ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Β―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è?!¬Μ –ê –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β―² –≤ ―¹–Β–±–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≥–Ϋ–Β–≤–Α, –Β–Φ―É –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Β–±―è –≤–Β–¥–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Β βÄî ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η! βÄî –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Η–Ε–Α―é―²―¹―è.
–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –±―Ä–Α―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―¹―É–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Α–Β–Φ –Β–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α–Φ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Β –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β, –±―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Η –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ–Α: –ö―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² –±―Ä–Α―²―É ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É: ¬Ϊ―Ä–Α–Κ–Α¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Η―² ―¹–Η–Ϋ–Β–¥―Ä–Η–Ψ–Ϋ―É; –Α –Κ―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²: ¬Ϊ–±–Β–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –≥–Β–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –€―΄ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ –Η –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–±–Η–¥–Ϋ―΄–Β, –Β–¥–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –î–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Μ―é–±–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―²–Η–Φ –Β–≥–Ψ ―É―è–Ζ–≤–Η―²―¨. –‰ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Β–Φ―¹―è –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η–Φ ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―É–Φ―É–¥―Ä―è–Β―²―¹―è ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α―¹ –≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―è―Ä–Ψ―¹―²―¨. –€―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨: ¬Ϊ–ê―Ö, ―²–Α–Κ ―²–Β–±–Β –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, ―²–Β–±―è ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Β―², ―²–Β–±―è ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è?!¬Μ –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―É–≥–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è. –ù–Α–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –≥–Ϋ–Β–≤–Α –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Η–Μ―É. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Α–Β―² –¥―É―à―É ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è, –Ϋ–Ψ –Η ―Ä–Α–Ϋ–Η―² (–≤ –Μ―É―΅―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―Ä–Α–Ϋ–Η―²!) –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ϋ–Β–≥–Ψ. –ü―Ä–Η―΅–Β–Φ ―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ϋ–Β–≤–Α, –Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ –±―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ε–Β―¹―²–Α―Ö, –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –≤ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥–Η–Φ –Ζ–Α ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Η –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ, –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Β–Φ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ι–¥–Β―². –ê –≤–Β–¥―¨ –≥―Ä―É–±―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―è–Ζ–≤–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –€―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Φ–Η–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–Φ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≥―Ä―É–±–Ψ–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä: ¬Ϊ–ù―É ―²―΄ –Η –¥―É―Ä–Α–Κ!¬Μ –Η –Ζ–Α–±―΄–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –¥―É―Ä–Ψ―¹―²―¨. –ù–Ψ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Φ―΄ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ–Η–ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β. –€―΄ –Ε–Η–≤–Β–Φ –¥–Α–Μ―¨―à–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, –Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –¥―É―à–Β ―Ä–Α–Ϋ–Α. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―É―¹―²―è–Κ. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ϋ–Α―¹ ―²–Α–Κ –Η–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Α –Φ–Α―Ä–Κ―¹–Η―¹―²―¹–Κ–Α―è, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è: –Β―¹–Μ–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―è―²―¨ –≤ ―Ä―É–Κ–Η, –Ω–Ψ―â―É–Ω–Α―²―¨, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Η –Η–Φ–Β–Β―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Α –Β―¹–Μ–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―². –€―΄ ―É–±–Η–≤–Α–Β–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄: –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ä―É–≥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Η–Ϋ―¹―É–Μ―¨―² –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―³–Α―Ä–Κ―². –ê –±―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –±―É–¥―É―΅–Η –≤ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α―Ö, –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Κ–Α–Κ―É―é-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ―É―é –≥–Μ―É–Ω–Ψ―¹―²―¨ –Η–Μ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Α–≤–Α―Ä–Η―é. –†–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–Η–Μ–Α –≥–Ϋ–Β–≤–Α ―è–≤–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü―΄ –Η –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―É–Ω–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨―é –Η –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η ―¹–Μ–Α–≤–Α –¥–Μ―è ―ç―²–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β–Μ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ –Μ―é–±–≤–Η –Κ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, ―¹ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α βÄî ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –ß–Η–Ϋ–≥–Η―¹―Ö–Α–Ϋ –Η–Μ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –€–Α–Κ–Β–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι. –‰ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Β–Φ –Φ―΄ –Η―Ö –Η–Μ–Η –Ψ–¥–Ψ–±―Ä―è–Β–Φ, ―¹―΅–Η―²–Α–Β–Φ –Η―Ö ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è–Β–Φ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η. –ß–Η–Ϋ–≥–Η―¹―Ö–Α–Ϋ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―É–Ε–Β –≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö: ¬Ϊ–£ ―΅–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β?¬Μ –û–Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―â–Α―Ö, –Α –Ψ–Ϋ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ: ¬Ϊ–Γ―΅–Α―¹―²―¨–Β –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–±–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α―¹–Η–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Β–Ι –Η –Ε–Β–Ϋ¬Μ. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –¥–Ψ―à–Β–Μ –¥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η! –Γ―²―Ä–Α―¹―²―¨ –≥–Ϋ–Β–≤–Α –±―΄–Μ–Α –¥–≤–Η–Ε―É―â–Β–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Ι βÄî –≤ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Β –±―΄–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–ΒβÄΠ –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–Ι―²–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ù–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ. –ü―Ä–Η–≤–Β–¥―É ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Α–Φ, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β―², –Κ–Α–Κ –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α–Μ –Β–Φ―É –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Ϋ–Ψ –Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥. –ë―΄–≤–Α–Β―², –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥―è―² –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Β–≤―Ä–Β–Β–Φ, –Η ―²–Ψ―², –Κ–Α–Κ –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ö–Η―²―Ä–Η–Μ. –û–Ϋ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è. –ù–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α βÄî –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η: –Ψ–Ϋ–Η, –Φ–Ψ–Μ, –≤―¹–Β ―²–Α–Κ–Η–Β. –‰ –Φ–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –≤―¹–Β –Β–≤―Ä–Β–Η ―²–Α–Κ–Η–Β βÄî –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –≥–Ϋ–Β–≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Μ–Η–±–Ψ –Ε–Η–Μ–Η, –Ε–Η–≤―É―² –Η –±―É–¥―É―² –Ε–Η―²―¨. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –ê –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Β ―²―É―² ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –≥–Ϋ–Β–≤–Α. –‰―²–Α–Κ, –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –±–Β―Ä–Β―΅―¨―¹―è –Ψ―² –≥–Ϋ–Β–≤–Α –Κ–Α–Κ –Ψ―² –≥―Ä–Β―Ö–Α. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ: –≥–Ϋ–Β–≤, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―É–Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, –Β―¹―²―¨ –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β. –Γ–≤―è―²―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Β―Ä–Β―¹–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ –±―É–¥–Β–Φ –Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨. –· –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―΅–Β―Ä–Β―¹―΅―É―Ä ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Β ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ. –≠―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Β―² ―¹–Α–Φ―É―é –≤–Β–Μ–Η–Κ―É―é –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨, βÄî –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Β―Ä―É. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Ψ–Β, –≥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―² –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²–Α, –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Η ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―¹―²–Α–Μ –≤―΄―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Η–Ζ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α, ―²–Ψ ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ. –†–Β―΅―¨, ―¹–Κ–Α–Ε―É –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ, –Η–¥–Β―² –Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –î―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Β ―¹–≤―è―²―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β―²―¨ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Α, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Α –Η–Φ–Β–Μ –Η –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ϋ–Α―à –‰–Η―¹―É―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹. –‰, –Ζ–Ϋ–Α―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –û–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –±–Β–Ζ–≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Ι –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Φ―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –û–Ϋ –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ, ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –· –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É –¥–≤–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α –Η–Ζ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è, –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –≥–Ϋ–Β–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. ¬Ϊ–‰ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤ ―¹–Η–Ϋ–Α–≥–Ψ–≥―É; ―²–Α–Φ –±―΄–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Η―¹―¹–Ψ―Ö―à―É―é ―Ä―É–Κ―É. –‰ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Ζ–Α –ù–Η–Φ, –Ϋ–Β –Η―¹―Ü–Β–Μ–Η―² –Μ–Η –Β–≥–Ψ –≤ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Η―²―¨ –ï–≥–Ψ. –û–Ϋ –Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Η–Φ–Β–≤―à–Β–Φ―É –Η―¹―¹–Ψ―Ö―à―É―é ―Ä―É–Κ―É: ―¹―²–Α–Ϋ―¨ –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―É. –ê –Η–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –≤ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Η–Μ–Η –Ζ–Μ–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨? –¥―É―à―É ―¹–Ω–Α―¹―²–Η, –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≥―É–±–Η―²―¨? –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η¬Μ. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Η, –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―²–Α–Φ, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η ―É–Ω–Ψ―Ä―¹―²–≤–Ψ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. ¬Ϊ–‰, –≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―¹ –≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Φ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―è –Ψ–± –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Β―Ä–¥–Β―Ü –Η―Ö, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―²–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É: –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ–Η ―Ä―É–Κ―É ―²–≤–Ψ―é. –û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ, –Η ―¹―²–Α–Μ–Α ―Ä―É–Κ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –Κ–Α–Κ –¥―Ä―É–≥–Α―è¬Μ. –≠―²–Ψ―² –≥–Ϋ–Β–≤ –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. ¬Ϊ–ü―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –ü–Α―¹―Ö–Α –‰―É–¥–Β–Ι―¹–Κ–Α―è, –Η –‰–Η―¹―É―¹ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ –‰–Β―Ä―É―¹–Α–Μ–Η–Φ –Η –Ϋ–Α―à–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ–≤, –Ψ–≤–Β―Ü –Η –≥–Ψ–Μ―É–±–Β–Ι, –Η ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤―â–Η–Κ–Η –¥–Β–Ϋ–Β–≥. –‰, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –±–Η―΅ –Η–Ζ –≤–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Κ, –≤―΄–≥–Ϋ–Α–Μ –Η–Ζ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –≤―¹–Β―Ö, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –Ψ–≤–Β―Ü –Η –≤–Ψ–Μ–Ψ–≤; –Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―É –Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―¹―΄–Ω–Α–Μ, –Α ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –Η―Ö –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ. –‰ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―é―â–Η–Φ –≥–Ψ–Μ―É–±–Β–Ι: –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η―²–Β ―ç―²–Ψ –Ψ―²―¹―é–¥–Α –Η –¥–Ψ–Φ–Α –û―²―Ü–Α –€–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Ι―²–Β –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ–Η¬Μ. –£–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Μ―é–¥―è–Φ, –Ζ–Μ–Ψ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è―é―â–Η–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ë–Ψ–Ε–Η–Η–Φ. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η, ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ? –½–¥–Β―¹―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è: –≤―΄–≥–Ϋ–Α–Μ –Η–Ζ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –≤―¹–Β―Ö. –ö–Α–Κ –û–Ϋ –Η―Ö –≤―΄–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ? –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: ¬Ϊ–£―΄–Ι–¥–Η―²–Β, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α¬Μ? –û–Ϋ –Η―Ö –≤―΄―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Μ, –û–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –±–Η―΅ –Η –±–Η–Μ –Η–Φ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö, –≤–Ψ–Μ―΄ –Φ―΄―΅–Α–Μ–Η, –Ψ–≤―Ü―΄ –±–Μ–Β―è–Μ–Η. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β: ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ―Ä–Η–Κ–Η, –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―Ä–Β–≤ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄―ÖβÄΠ –€–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ ―Ä–Α―¹―¹―΄–Ω–Α–Μ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―É –Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –Η―Ö ―¹―²–Ψ–Μ―΄. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η? –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ϋ–Β–≤–Α, –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.  –î–Ε–Ψ―²―²–Ψ. –‰–Ζ–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η–Ζ –Ξ―Ä–Α–Φ–Α –Θ–Ε –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≥–Ϋ–Β–≤ –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Η―É–¥–Β–Β–≤, –Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Η―Ö. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Φ –±―΄–≤–Α–Β―² ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α―²―¨―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ϋ–Β–≤―É –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É, –≥–Ϋ–Β–≤―É –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η. –ù–Ψ –≤ –Η–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Μ―É―΅―à–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹―¨―é –≥―Ä–Β―Ö–Α, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Μ–Η–±–Ψ –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –£ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö, –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Μ―É―΅―à–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α―²―¨―¹―è –≥–Ϋ–Β–≤―É –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É. –½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―¹–Β –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Ϋ–Ψ –Η ―è―¹–Ϋ–Ψ. –î–Μ―è ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Β–Ϋ –≥–Ϋ–Β–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―è–Φ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Ψ–Ϋ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―²–Ψ–Φ―É –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Φ―É –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―é. –ê –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–Φ–Β―²―¨ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²–Η, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨: –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –±―΄―²―¨ –€–Ψ–Η–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Η―² –¥―É―à―É ―¹–≤–Ψ―é. –ù–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ –≤ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –Η –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –Η–Φ–Β―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α―É―΅–Η–Φ―¹―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η. –ß―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η? –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤–Η–¥―è –≤ ―¹–Β–±–Β –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤―΄–Κ–Α―²–Η―²―¨ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ψ―² –Ζ–Μ–Ψ―¹―²–Η, ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β―²―¨―¹―è –Η –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –±―Ä―΄–Ζ–≥–Α―²―¨ ―¹–Μ―é–Ϋ–Ψ–Ι. –™–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α –±–Μ―É–¥–Ϋ―É―é ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤ ―¹–Β–±–Β ―ç―²―É ―¹–Κ–≤–Β―Ä–Ϋ―É, –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―ç―²―É ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, –Η –Η–Ζ–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Η–Μ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Β–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Η―² –≤ ―¹–Β–±–Β –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨, –Ψ–Ϋ –≥–Ϋ–Β–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Μ―é–±–Ψ–Ι, –¥–Α–Ε–Β –Φ–Α–Μ―΄–Ι –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―â–Η–Ι –≤ –Β–≥–Ψ ―É–Φ–Β. –€–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –‰―¹–Η―Ö–Η–Ι –‰–Β―Ä―É―¹–Α–Μ–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö –¥–Α–Β―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² βÄî –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄: ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥–Β―² –Κ ―²–Β–±–Β –≤―Ä–Α–Ε–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ, –±―Ä–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹ –≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Κ–Μ―è―²–≤―΄ –Η–Ζ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α¬Μ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨. –ü―Ä–Η―à–Β–Μ –Κ ―²–Β–±–Β –±–Μ―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ, –Α ―²―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨: ¬Ϊ–ß―²–Ψ–± ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–± ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è!¬Μ βÄî –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¹―è. –†–Β―΅―¨ –Η–¥–Β―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Η, ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―É. –ï―¹–Μ–Η ―É ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―²―΄ –Η―¹―²–Ψ–≤–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è, ―²―΄ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―à―¨ –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―É. –ü―Ä–Η―²–Ψ–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Φ–Β–¥–Μ–Η―²―¨ –Η –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α―²―¨―¹―è. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –¥―É–Φ–Α―²―¨: ¬Ϊ–ù―É, ―è –Ε–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―éβÄΠ –™―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, ―²–Α–Κ ―Ö–Ψ―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Β―΅―²–Α―é¬Μ. –‰–Ϋ–Α―΅–Β –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η –±―É–¥–Β–Φ –Φ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―¹–Α–Φ–Η –±―É–¥–Β–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–Β–±–Β ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Β–¥–Β–Φ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΅–Α―²–Ψ, –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. *** –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –· –Ψ―² –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ϋ–Β–≤–Μ–Η–≤―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α―é –Ω–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É. –ß―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨? –Γ―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ ―¹–Β–±―è ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é –¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―é ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―ÄβÄΠ –û―²–≤–Β―². –Γ–Β–Φ―¨ –±–Β–¥ βÄ™ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―². –€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è, –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨. –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Φ―΄ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―è ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η, –Φ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Β–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β―², –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ―΄ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Ω–Α–¥–Β–Φ. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨―é –Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ–Μ–Η. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²? –≠―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ ―è, –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, ―²–Β―Ä–Ω–Μ―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤ –Ψ―²–≤–Β―². –‰–Μ–Η ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Α–Ε–Β –≤–Η–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –Η–Ζ–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Φ―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –≥―Ä–Β―Ö―É –Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –±―É–¥–Β–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Η–Μ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è βÄî ―²–Ψ–≥–¥–Α –ë–Ψ–≥ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄, –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–≤ –≥–Ϋ–Β–≤, ―É–Ε–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è. –ù–Α –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Α―²―¨ –≤―Ä–Α–≥ –Η –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Α―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨, –≥–Ϋ–Β–Ζ–¥―è―â―É―é―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥―É―à–Β. –î–Α –Η ―¹–Α–Φ–Η –Φ―΄ –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β: ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Η–Φ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η, –Α –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―². –‰ –≥―Ä–Β―à–Η–Φ –≤ ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ―΄ ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≥―Ä–Β―à–Η―²―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±–Β. –‰ ―ç―²–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ―è–Β―² –≤ –Ϋ–Α―¹ –≥–Ϋ–Β–≤ –Η –Ϋ–Α―¹–Α–Ε–¥–Α–Β―² –Κ―Ä–Ψ―²–Ψ―¹―²―¨. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α–¥–Ψ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –≤ –Μ―é–¥―è―Ö –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η. –û–¥–Η–Ϋ –±–Ψ―Ä–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –¥―É―à–Β –Β–≥–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Η ―²–Β–Ϋ–Η –≥–Ϋ–Β–≤–Α –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² ―¹–Β–±―è –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―É–¥–Α―Ä–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ –Ω―΄–Μ―É ―¹–Ω–Ψ―Ä–Α, –Η –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α. –ù–Ψ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –±―΄ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Φ―΄ –Ϋ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²―΅–Α–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –≤–Ζ―è―²―¨―¹―è –Ζ–Α ―É–Φ –Η –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±―É. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –· –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –Κ–Α―é―¹―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Φ―É–Ε–Α, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―é –Ψ―à–Η–±–Κ―É. –ù–Ψ –Φ―É–Ε ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Α–≤: ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Α―é―â–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É, –Μ–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –≤ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–Β―² ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Ψ–Ι–¥–Β―² –Η –¥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α. –ö–Α–Κ –±―΄―²―¨? –û―²–≤–Β―². –ï―¹–Μ–Η ―É –≤–Α―¹ ―¹ –Φ―É–Ε–Β–Φ –Ψ–±―â–Η–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ (–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α), –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Φ―É. –ï―¹–Μ–Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ ―É –Φ―É–Ε–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄî –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Β–Φ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι, ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨. –ï―¹–Μ–Η –Φ―É–Ε –Φ–Α–Μ–Ψ–≤–Β―Ä―É―é―â–Η–Ι –Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ, ―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ βÄî –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. –‰ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤–Β―¹―²–Η ―¹–Β–±―è ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û―² –≤–Α―à–Η―Ö –Ψ–±–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ―É –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―². –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥ –Ψ–±–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―². –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Β―Ä–Ω–Η―²–Β, ―¹–Φ–Η―Ä―è–Ι―²–Β―¹―¨ –Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–Β―¹―¨. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―Ä–Α–¥–Η –≤–Α―à–Η―Ö –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –¥―É―à―É, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è. –ê –Β―¹–Μ–Η –≤–Β–Ζ―²–Η ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΅–Η–≤–Ψ, ―²–Ψ –Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Β―¹―²–Η―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –±―Ä–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ–Η―é –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Β―¹―²―Ä–Α–Φ. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―é –Η―Ö –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Α―é―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β―¹―²―Ä―É, –Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –¥–Ψ―¹–Α–¥―É―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –î―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ϋ–Β–≤–Α, ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ê –Φ–Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Β―É–Ε–Β–Μ–Η ―è –Ϋ–Β –≤–Η–Ε―É ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨? –û―²–≤–Β―². –ö–Α–Κ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α, –≤ ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è? –£–Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨: ―¹–Β–Μ, –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –Ϋ–Α ―²–Β–±―è –Κ–Ψ–Φ–Α―Ä –Η –Ω―¨–Β―² ―²–≤–Ψ―é –Κ―Ä–Ψ–≤―¨. –Δ―΄ –Β–≥–Ψ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ. –≠―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α―Ä –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―², ―²–Ψ –Η ―²–≤–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ψ. –ê –Η–Ϋ–Α―΅–Β ―É ―²–Β–±―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², ―΅―²–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Η –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ. –ê –≤–Ψ―² –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ, ―²–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄―²―¨ ―¹ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨―é: –£―¹―è–Κ–Η–Ι –≥–Ϋ–Β–≤–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –±―Ä–Α―²–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―¹―É–Β –Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ –Β―¹―²―¨ ―¹―É–¥―É? –£–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ϋ–Α―à–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ψ. –£–Ψ―² ―²―É―² –Β―â–Β –≤ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Ϋ. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Ϋ? –Δ–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Η―²–Α–Β―²: ¬Ϊ–· –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―΅―É–¥–Ϋ–Ψ–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–ΒβÄΠ¬Μ –Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²: ¬Ϊ–Θ―Ö–Ψ–¥–Η –Ψ―²―¹―é–¥–Α¬Μ. –‰ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―è–Μ ―²–Ψ–Ϋ? –ß–Η―¹―²–Ψ –Η–Ζ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –Μ–Η? –ù–Β―². –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Β―¹―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Ψ―²–Η–≤, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≤ –¥―É―à–Β. –ß―²–Ψ –Ζ–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ ―²–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Β―¹―²―Ä–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α? –Θ–Ε –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –≤–Ψ–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –£―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Α –Ϋ–Α –Β―Ä–Β―¹–Η –Η –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –· –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Β ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ. –‰ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ ―¹ –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Α―é―â–Η–Φ―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β–Φ–Η–Κ―É? –û―²–≤–Β―². –†–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ –¥–≤–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –£–Ψ―² –±–Β―¹–Β–¥―É―é ―è ―¹ ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ. –û–Ϋ –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Η ―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄. –· –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ ―²–Ψ–Ι ―Ö―É–Μ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―ç―²–Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤–Ψ–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨. –ù–Ψ ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η ―è –≤–Η–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―É–±–Β–¥–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ? –ï―¹–Μ–Η ―è –Ϋ–Α―΅–Ϋ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨, –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Α―¹―²? –· –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±―É–¥―É –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Κ–Η–Ω―è―²–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ζ–Μ–Ψ―¹―²–Η, –Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―É. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²―É―² –Μ―É―΅―à–Β ―¹–≤–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Η ―¹–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ: –Φ–Ψ–Μ, ―è –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ, –Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö, ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö. –ù–Ψ –≤ –Ω―Ä–Β–Ω–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, ―²–Β–Φ –Ω–Α―΅–Β –≥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―². –· ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―²–Β, –Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–±–Μ–Β―à―¨, –Ϋ–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―¹–Ω–Ψ―Ä―É –Η –¥―É–Φ–Α–Β―²: ¬Ϊ–ö―²–Ψ –Ε–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤? –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–Μ–Η ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²?¬Μ –ï―¹–Μ–Η ―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –±―É–¥―É –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Η, βÄî –Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η―â–Β―² –Φ–Η―Ä–Α –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤–Β–¥―¨ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―², βÄî ―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Μ―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–¥–Η –Ϋ–Β–≥–Ψ ―è –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è―΅―¨ –≤―¹–Β ―¹–Η–Μ―΄ –¥―É―à–Η –Η ―É–Φ–Α, –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Β–≥–Ψ ―É–±–Β–¥–Η―²―¨. –ï―¹–Μ–Η ―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, ―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―É –ë–Ψ–≥–Α. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è: –≤–Ψ―² ―²–Ψ-―²–Ψ –Η ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α –≤–Ψ―² ―²–Ψ-―²–Ψ βÄ™ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –î–Α–Ε–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ ―¹ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Β―Ä―΄ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ―΄―Ö, ―Ö–Η―²―Ä―΄―Ö –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²–Α.
|
–€―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β–Φ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η―é –±–Β―¹–Β–¥ ―¹―Ö–Η–Α―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―²–Α –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ–Α (–†–Β–Ι–¥–Φ–Α–Ϋ–Α), –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ-–Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Η –Γ–≤―è―²–Ψ-–ö–Ψ―¹―¨–Φ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β―¹–Β–¥–Β ―Ä–Β―΅―¨ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ –Ψ –Ϋ–Β–Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ. –£―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨: ¬Ϊ–ù–Β ―¹―É–¥–Η―²–Β, –¥–Α –Ϋ–Β ―¹―É–¥–Η–Φ―΄ –±―É–¥–Β―²–Β¬Μ. –ù–Ψ ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–†–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ? –ö–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α―²―¨, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Α –Κ―²–Ψ βÄî –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ? –ö–Α–Κ –±―΄―²―¨ ―¹―É–¥―¨―è–Φ, ―΅―¨―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è βÄî –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Η –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨? –€–Β–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Ψ–¥ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η?¬Μ –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è.  –Γ―Ö–Η–Α―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ (–†–Β–Ι–¥–Φ–Α–Ϋ) –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²–Α –≤ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Η –Ψ―² –¦―É–Κ–Η. ¬Ϊ–ù–Β ―¹―É–¥–Η―²–Β, –Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―²–Β ―¹―É–¥–Η–Φ―΄; –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Ι―²–Β, –Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―²–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄; –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ι―²–Β, –Η –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ―΄ –±―É–¥–Β―²–Β; –¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β, –Η –¥–Α―¹―²―¹―è –≤–Α–Φ¬Μ (–¦–Κ. 6, 37βÄ™38). ¬Ϊ–ù–Β ―¹―É–¥–Η―²–Β, –Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―²–Β ―¹―É–¥–Η–Φ―΄¬Μ.–¦―É―΅―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Β–Φ―¹―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Κ―É βÄî –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –Η –≤―¹–Β―Ö. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―à–Α –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι: –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Ϋ–Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –¥–Α –Η –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η –Η―¹–Κ–Α–Ε–Α―é―² –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ê –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―¹―É–¥―è –Ψ –Κ–Ψ–Φ-―²–Ψ, –Φ―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Β–Φ―¹―è –≤ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ –‰–Ψ–≤ –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι: ¬Ϊ–Γ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η¬Μ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –±―΄–≤–Α―é―² ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, βÄî –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β, ―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β: ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΄–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η, –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Α―Ö –Η –Μ―é–¥―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―¹ –Η―¹–Κ―É―à–Α―é―². –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –±―΄–≤–Α–Β–Φ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Β―Ä–Β–≥–Α―²―¨―¹―è –Ψ―¹―É–¥–Η―²―¨:¬Ϊ–ù–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Ι―²–Β, –Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―²–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄¬Μ. –ï―¹–Μ–Η –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―¹―É–¥–Η―²–Β, ―²–Ψ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Ι―²–Β. –≠―²–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―² –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ―é―é –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Κ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é. –€―΄, –Ϋ–Β –≤–Η–¥―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α ―²–Β –≥―Ä–Β―Ö–Η –Η ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Β–Φ ―¹–Α–Φ–Η. –ê ―É–Ε –Ζ–Α ―²–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―², –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Β–Φ ―¹ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ―¹―²―¨―é. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Ε–Α–¥–Ϋ―΄–Ι, –±―É–¥–Β―² –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Μ–Β–Ϋ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ: –Φ–Ψ–Μ, –≤–Ψ―² –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α –¥―É―à–Ψ–Ι –Ϋ–Β―². –û–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ ―²―Ä―É–¥–Η―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–¥–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Α, –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, ―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―É –¥–Ψ–±―Ä―΄–Ι, –±―É–¥–Β―² –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β―¹―²–Κ–Η―Ö. –Γ–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ε–Β ―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―²–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β―² –Η ―¹―΅–Η―²–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ω―É―¹―²―è–Κ. –Γ―²―Ä–Α―¹―²―¨ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β –±–Ψ―Ä–Β–Φ―¹―è, –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Ζ–Η―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –¥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―²–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ –Η –≤ –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Β―². –ü―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Α–≤–≤–Α –î–Ψ―Ä–Ψ―³–Β–Ι. –û–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –±―Ä–Α―² –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Κ–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ–Β–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―ç―²–Η–Φ ―³―Ä―É–Κ―²–Ψ–≤ –≤ ―¹–Α–¥―É. –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ―É, –Η ―²–Ψ―² –Ψ―²–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –±―Ä–Α―²–Α –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –ß–Α―à–Β. –‰–≥―É–Φ–Β–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –±―Ä–Α―²–Α, –Η –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ –Μ–Η―²―É―Ä–≥–Η–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–Α–¥―É, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Η –≤ –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –¥–Β–Μ―É. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨. –ù–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Η –Ψ―¹―É–¥–Η―²―¨. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä,–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Μ –¦―¨–≤–Α –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ βÄî ―²–Α–Κ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Μ: ¬Ϊ–· –Β–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―é¬Μ. –· –¥–Α–Ε–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ―²–Β –Η –¥–Β―Ä–Ζ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―²–Α–Κ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―Ö―É–Μ–Η–Μ ―ç―²–Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –î–Α, –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Ι –±―΄–Μ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ βÄî ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―Ä–Α―¹―²–Μ–Η–≤―à–Η–Φ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η―é. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ψ―²–Β―Ü –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Μ –¦―¨–≤–Α –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β–Μ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ψ–Ϋ –±―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ. –‰ ―²–Α–Κ―É―é –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ―É, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à―É―é―¹―è –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Β–Ι, –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η βÄî –Ψ–Ω―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Α–¥–Ψ –¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η –Ψ―²–Β―Ü –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ –Β―â–Β –Ε–Η–≤ (–Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –¥–≤―É–Φ―è –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β), –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –±―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ. –û―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Φ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ψ―² ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è; ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η βÄî ―²–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≤―¹―²–≤–Ψ. –ü–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β ―¹–≤―è―²―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è ―΅–Η―²–Α–Μ ¬Ϊ–î–Β―è–Ϋ–Η―è –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–≤¬Μ, ―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Α–Κ―². –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―Ä–Η―² –ö–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è III –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –≤–Β–Μ ―¹–Β–±―è, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Φ―è–≥–Κ–Ψ, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α―â–Η―â–Α–Μ –Β―Ä–Β―¹–Η–Α―Ä―Ö–Α –ù–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –±–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―Ä–Η―² –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β–Φ, –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ζ–Η―²―¹–Κ–Η–Β –±―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤ ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Β―Ä–Β―¹―¨―é, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–Φ IV –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α. –ù–Ψ ―¹–≤―è―²―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Α–Μ –ù–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, –Η ―¹―²–Α–Μ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ―² –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―Ä–Η―²–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è–Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Α. –û―²―Ü―΄ –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Β–Φ―É: ¬Ϊ–Γ–Κ–Α–Ε–Η: βÄû–ê–Ϋ–Α―³–Β–Φ–Α –ù–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η―é!βÄ€¬Μ, –Α –Ψ–Ϋ –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è: ¬Ϊ–· –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Ψ–Φ!¬Μ –ù–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α―é―² –Β–≥–Ψ: ¬Ϊ–€―΄ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Η–Φ ―²–Β–±―è ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨, ―¹–Κ–Α–Ε–Η: βÄû–ê–Ϋ–Α―³–Β–Φ–Α –ù–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η―é!βÄ€¬Μ; –Α –Ψ–Ϋ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨―¹―è. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤ –Ζ–Α–Μ–Β –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Α ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Ϋ–Η―è: ¬Ϊ–Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ! –û–Ϋ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ!¬Μ –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: ¬Ϊ–ê–Ϋ–Α―³–Β–Φ–Α –ù–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η―é!¬Μ –û―²―¹―é–¥–Α –Φ―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –≤―΄–≤–Ψ–¥. –¦–Η–±–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α IV –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –Η –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―Ä–Η―²–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–¥–Η–Μ–Η –Ψ―¹―É–¥–Η―²―¨ –ù–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ –Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β, –Μ–Η–±–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Β –Β―¹―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―²―Ü–Ψ–≤ –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Η –Η―Ö ―É―¹―²–Α–Φ–Η –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ –Η―¹―²–Η–Ϋ―É –Γ–Α–Φ –î―É―Ö –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é: ¬Ϊ–≠―²–Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄî –Β―Ä–Β―²–Η–Κ¬Μ, –Η–Μ–Η: ¬Ϊ–ê–Ϋ–Α―³–Β–Φ–Α –ù–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η―é!¬Μ βÄî –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β―² –≥―Ä–Β―Ö–Α –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ë–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η–Μ, –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―è –ù–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η―è. –‰ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η–Μ, –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―è –¦―¨–≤–Α –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ.  photosight.ru. –Λ–Ψ―²–Ψ: –Π―΄–±―É–Μ–Η–Ϋ–Α –ù–Α―²–Α–Μ―¨―è –‰―²–Α–Κ, –Ω–Ψ–¥ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η ¬Ϊ–ù–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Ι―²–Β¬Μ –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –≤ –≤–Η–¥―É: –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Ι―²–Β ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ. –ë―΄–≤–Α―é―² ―¹–Μ―É―΅–Α–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–¥–Η–Φ, ―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η–Φ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –±–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–¥–Η–Μ –ù–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, ―²–Ψ –Β–≥–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β–Φ, –Ω―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –±―΄ –Α–Ϋ–Α―³–Β–Φ–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –ù–Β―¹―²–Ψ―Ä–Η–Β–Φ. –‰ ―²–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹: –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –±–Ψ–≥–Ψ―Ö―É–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―²–Α), ―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Η―Ö –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Β–Φ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―²: ¬Ϊ–ù–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Ι―²–Β, –Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―²–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄; –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ι―²–Β, –Η –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ―΄ –±―É–¥–Β―²–Β¬Μ. –ï―¹–Μ–Η –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–¥–Η―²―¨, ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ι―²–Β ―ç―²–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –¥–Β―Ä–Ε–Η―²–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Μ–Α. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ: –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ βÄî –Ψ―¹―É–¥–Η―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É–Β―² ¬Ϊ–ù–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Ι―²–Β¬Μ. –ß–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –Μ―é–±–Η―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–Ζ–Κ–Ψ. –ù–Ψ –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―¹―É–¥–Α –Ϋ–Α–¥ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Η–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –Κ–Μ–Η―Ä–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Η―Ä―è–Ϋ–Α–Φ–Η? –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β―Ö –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –Η―Ö –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Α ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Κ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ω―Ä–Β―²–Η―Ä―É–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ ―²–Β–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α–Φ. –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ βÄî ¬Ϊ–Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Μ―é–±–Η―²―¨¬Μ, –≤ –Ϋ–Β–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –Η –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Β –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―é –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö ―¹―É–¥ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ. –ö–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Β ―¹―É–¥–Η―²―¨ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É–Β―²―¹―è –Η –Κ–Α–Β―²―¹―è? –ö–Α–Κ ―¹―É–¥―¨―è –Η–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η? –Ξ–Ψ―΅―É –Ϋ–Α–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ―É―é –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ―É. –î–Α, –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―è―Ö –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Α –Η –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―è–Φ. –£ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–¥–Η―² –Η –Ϋ–Α―¹. –£―¹–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Ϋ–Α―é―² ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Η–Ζ –Ψ―²–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Μ. –•–Η–Μ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Η–≤–Ψ, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Φ–Β―Ä –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Β–Φ―É ―¹–≤–Η―²–Ψ–Κ ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ: ¬Ϊ–™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η! –Δ―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: βÄ€–ù–Β ―¹―É–¥–Η―²–Β, –¥–Α –Ϋ–Β ―¹―É–¥–Η–Φ―΄ –±―É–¥–Β―²–ΒβÄù. –£–Ψ―², ―è –Ζ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–¥–Η–Μ¬Μ. –‰ ―²–Ψ―²―΅–Α―¹ –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Η―²–Κ–Α –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η. –≠―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α –≤–≤–Β–Μ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –‰ –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Β–Ι –Ω―Ä–Η–Μ–Β–Ε–Α―²―¨, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤–≤–Β–¥–Β―² –≤ –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η –Η –Ϋ–Α―¹. ***–£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –ö–Α–Κ –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Ϋ–Β –≤–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β? –û―²–≤–Β―². –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Α –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Ψ –Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―É –ë–Ψ–≥–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Η –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―¹–Η–Μ –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η. –ù–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ, –Β―¹–Μ–Η ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Ψ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ βÄî –Ϋ–Α―à–Α –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ―΄. –ü―É―¹―²―¨ –Φ―΄, ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―è –Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –Ψ―¹―É–¥–Η–Φ –Η―Ö –Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ –¥–Α–¥–Η–Φ –Η–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Α ―΅―²–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –‰ –Μ―É―΅―à–Β –Ϋ–Α–Φ, –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―΅–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²―¨ –¥–Β–Μ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ. –£ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –¥―É–Φ–Α―²―¨: –Β―¹―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β? –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨, ―²–Ψ –Β–¥–≤–Α –Μ–Η –Η–Ζ–±–Β–Ε–Η–Φ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –±–Β–Ζ –Ϋ―É–Ε–¥―΄ βÄî –Η ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ. ***–£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –€–Ψ―è ―²–Β―²―É―à–Κ–Α, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è –Κ –Ϋ–Α–Φ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ε–Α–Μ―É–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Κ―É –Η –Ϋ–Α ―¹―΄–Ϋ–Α-–Α–Μ–Κ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Η–Κ–Α. –ï–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Ε―É―²―¹―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η, –Η –Φ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β–Φ―¹―è. –ù–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Β―²? –‰ –Φ―΄ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–≤―É–Β–Φ? –û―²–≤–Β―². –î–Α, ―è –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Η –Κ ―΅–Β–Φ―É. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―É―², –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Η ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Β―²―É―à–Κ–Β, –Ϋ–Η –Β–Β ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ϋ–Η ―ç―²–Ψ–Φ―É –±–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Α–Μ–Κ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Η–Κ―É. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α―²―¨―¹―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Μ–Η–±–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―²―΄ ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨, βÄî –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è. –ù–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ω–Α–¥―à–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η–Φ–Β―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Φ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄―à–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Η–Μ―΄. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Μ–Η–±–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨, –Μ–Η–±–Ψ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–¥–Η―²―¨. –ê ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―è –≤ –Ζ–Μ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Η, –Φ―΄ –Μ–Η―à―¨ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Α–Β–Φ –≥―Ä–Β―Ö. ***–£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –ö–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ –Ϋ–Β―²―Ä–Β–Ζ–≤―΄–Φ? –Θ–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α –Μ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η? –û―²–≤–Β―². –· ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –û–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β, –±―΄–Μ –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨, –Ω―¨―è–Ϋ―΄–Ι –≤–¥―Ä–Β–±–Β–Ζ–≥–Η, –≤―¹―²–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –€–Α―²–Β―Ä–Η, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨βÄΠ –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Φ–Α –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α ―Ä–Α–Κ–Ψ–Φ. –ê –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –≤―΄–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ϋ―è –Η–Ζ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Μ―é–±–Η–≤–Ψ, ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―΄–≤–Β–Μ, ―¹―²–Α–Μ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è ―²–Ψ―², –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―é, –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―¨―è–Ϋ. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨―¹―è, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Φ–Ψ–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Κ –≤–Β―Ä–Β, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² βÄî –Η ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Η―΅―¨ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–¥ –Ψ–¥–Ϋ―É –≥―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ―É –Η –Ψ–≥―É–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α―Ö –≤―΄–Ω–Η–Μ –Μ–Η―à–Ϋ―é―é ―Ä―é–Φ–Κ―É. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –≤–Β–¥–Β―² ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ, ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ–Η―², –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤―É–Β―² βÄî ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Η–Β ―²–Ψ–Ε–Β. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ψ―² –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Μ―É―΅―à–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β. 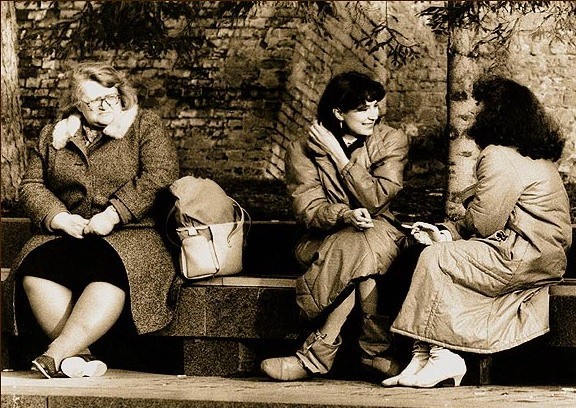 photosight.ru. –Λ–Ψ―²–Ψ: –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–≤ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –€–Ϋ–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Α, ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –Ψ―²–Ω–Β―΅–Α―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Α. –ù–Β―² –Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è? –û―²–≤–Β―². –¦―É―΅―à–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Β ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨―¹―è, –Α ―²–Ψ –±―É–¥–Β―à―¨ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Μ―é–¥―è–Φ: ¬Ϊ–£–Ψ―² ―²―΄ βÄî –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Ι. –‰ ―²―΄ –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Ι, –Η ―²―΄ –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Ι: ―É –≤–Α―¹ –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Α―Ö –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―²–Ω–Β―΅–Α―²–Κ–Η¬Μ. –€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –¥–Α–Ε–Β –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è, –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι. –‰―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²―¨ –≤ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≥–Ψ. –Γ–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –‰–≥–Ϋ–Α―²–Η–Ι –ë―Ä―è–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Μ―¹―è –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Μ–Η―Ü–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ –Μ–Η―Ü–Α –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–≤ –ë–Ψ–Ε–Η–Η―Ö. –û–Ϋ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Α–≥–Α, –Κ–Μ–Β–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η –≤–Η–¥–Β–Μ –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Ψ ―¹–Η―è―é―â–Η–Φ, –Κ–Α–Κ ―É –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Α. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É? –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―² –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –±―΄–Μ –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ? –ù–Β―², –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―è –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Μ―è–Β―² ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, ―΅―²–Ψ –Μ–Η―à–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―΅―É–Ε–Η―Ö –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤. –‰―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―², –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η. –‰–Φ, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω–Ψ–Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α–¥–Η –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―Ä–Α–¥–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ. –î―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α. –Ξ–Η―Ä―É―Ä–≥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Ψ –Η –Ω–Β―Ä–Β–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α–¥–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è, –Α ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η. –£–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤―¹–Β–Φ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ–Α―è ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β: –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η–Μ–Η –≥–Ϋ–Β–≤. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –¥―É–Φ–Α―²―¨: –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β, –Κ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β, –≤―¹–Β –Α–Ϋ–≥–Β–Μ―΄ –ë–Ψ–Ε–Η–Η, –≤―¹–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–≤―è―²―΄–Β, –Ψ–¥–Η–Ϋ ―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Μ―é–¥―è–Φ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ. –ù–Ψ –Ψ–±―â–Β–Β –Ϋ–Α―à–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ.
|
–ö–Ψ―â―É–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Η–¥–Β―²―¨! ?–Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –®―É–Φ―¹–Κ–Η–Ι ―¹―΅–Η―²–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Β–±–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –±―É–¥–Β―² –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –¥–Β–Μ―É ¬Ϊ–ü―É―¹–Η –†–Α–Ι–Ψ―²¬Μ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² ―¹―É–¥―¨–±–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η... –· –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Μ–Β―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ ¬Ϊ–€–Β―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è¬Μ, –≥–¥–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –™–Μ–Β–± –•–Β–≥–Μ–Ψ–≤, –≤ –±–Β―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –£―΄―¹–Ψ―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–£–Ψ―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Η–¥–Β―²―¨! –‰ –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² ―¹–Η–¥–Β―²―¨!¬Μ –‰ –Φ―΄, –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ―é―é ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ―É―é –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Β–Φ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ―΄. –£–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―¹–Α–Ε–Α―é―², –Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –≤―¹–Β –±–Μ–Η–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Κ―Ä–Α―é –Ψ–±―Ä―΄–≤–Α. –ù–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Α –™–Μ–Β–±–Α –•–Β–≥–Μ–Ψ–≤–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ–Α –Η –Κ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –≤–Η–¥–Α–Φ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤―É. –ü―Ä–Η―΅–Β–Φ, –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –≤ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, –Β―â–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹―²–≤–Α. –£–Β–¥―¨ –≤–Ψ―Ä –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –≤–Ψ―Ä ―²–Α–Η―²―¹―è, ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Η―à–Κ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –Ε–Η–≤–Β―² –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Β, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Μ–Β―΅–Β–Ϋ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é. –ê –Κ–Ψ―â―É–Ϋ–Ϋ–Η–Κ - ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Η–¥–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β, ―¹―²–Α―Ä–Α―é―â–Β–Β―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ –≤―¹–Β–Φ–Η, –Κ–Ψ―â―É–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―Ö–Ψ―΅–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ¬Ϊ–≥–Β―Ä–Ψ–Η¬Μ, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –ö–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ–Α, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é ―ç–Ω–Η–¥–Β–Φ–Η―é. –£―¹–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄–Β ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―² ―ç―²–Ψ―² –≤―΄–≤–Ψ–¥. –ù–Ψ –Μ―é–±–Α―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ―É –Η–Ζ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Α. –™–Β–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–≤―è–Ζ―¨ –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Λ. –€. –î–Ψ―¹―²–Ψ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β ¬Ϊ–ë–Β―¹―΄¬Μ. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Η–≥–Η–Μ–Η―¹―² –¦―è–Φ―à–Η–Ϋ –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –Φ―΄―à―¨ –Ζ–Α –Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄. –û ―¹–≤―è–Ζ–Η –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –î―Ä―É–Ζ―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η¬Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Β ¬Ϊ–ö–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Η –≤–Ψ–Ζ–¥–Α―è–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ¬Μ. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è ―²–Β, –Κ―²–Ψ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―è, ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä―É―é―² –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Α, ―É―΅–Α―¹―²–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ –Γ–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α―¹–Ω–Η–Ϋ–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Η –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨¬Μ. –Ξ–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Φ: –≤―΄, ―Ä–Β–±―è―²–Α, ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤–Ζ–Ψ–Ι–¥–Η―²–Β –Ϋ–Α –ö―Ä–Β―¹―², –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ι―²–Β! –ê –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β –Η –Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Η, ―¹―΄―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä―΄–≥–Η–≤–Α―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α, –Ϋ–Β–≥–Ψ–Ε–Β! –Θ –Ϋ–Α―¹ ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –±–Β–Ζ–±–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Μ–Η―΅–Α―²―¨ –Κ–Ψ―â―É–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –£ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –™―Ä―ç–Φ–Α –™―Ä–Η–Ϋ–Α ¬Ϊ–Γ–Η–Μ–Α –Η ―¹–Μ–Α–≤–Α¬Μ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è, –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–≤―à–Α―è –Ψ–±–Μ–Η–Κ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α: ¬Ϊ...–Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Μ–Η―¹―²–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–±―Ä–Η―²―΄–Β, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ω―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―â–Β–Κ–Η ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ω―É―Ö–Μ―΄–Β –¥–Μ―è –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α. –Γ–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –±–Μ–Α–≥–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η - ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö, –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ. –®―²–Α–Φ–Ω―΄ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α ―è–Ζ―΄–Κ–Β, ―à―É―²–Κ–Α, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―é―â–Α―è –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―é, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –Ω―Ä–Η―è―²–Η―é –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Ϋ–Η―è... –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ¬Μ. –ü―É―¹―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―â–Α–Β―² ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ –™―Ä―ç–Φ –™―Ä–Η–Ϋ –Ω–Η―à–Β―² –Ψ –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Β. –†–Α–Ζ–≤–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –Ϋ–Β―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Β –Η –Ϋ–Α–Φ? –‰ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²―è―² ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–Β―Ä―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è. –ù–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―è –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η―Ä―è–Ϋ. –†–Β―΅―¨, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―à–Μ–Α –Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ö –Φ–Η―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –· –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Α–Φ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―² –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ 7 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α ―¹–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ψ–Φ –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Β ¬Ϊ–û–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Κ–Ψ―â―É–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄ –Η ―¹–Α―²–Α–Ϋ–Η―¹―²–Κ–Η, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι ―¹–Β–±―è ¬Ϊ–€–Α–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ. –· –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ, ―΅―²–Ψ 7 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Θ―¹–Ω–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Ϋ–Ϋ―΄, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄. –· –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –†–Β–Α–Κ―Ü–Η―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –±–Α―²―é―à–Β–Κ, –≥–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –Φ–Ϋ–Β –≤ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è, –±―΄–Μ–Α –Ψ―à–Β–Μ–Ψ–Φ–Μ―è―é―â–Β–Ι. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―΅–Α, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–ê –≤–Α–Φ, –±–Α―²―é―à–Κ–Α, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ―΄–Ι –±–Η–Μ–Β―² –Ϋ–Α –Β–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²?¬Μ –î―Ä―É–≥–Η–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–€–Α–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄¬Μ. –‰―Ö –Β―â–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―è –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ζ–Α―¹―²―Ä–Β–Μ–Η―²―¨ ―ç―²―É –Ω―Ä–Β–Η―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ―é―é –≥–Ϋ–Η–¥―É –Η–Ζ ―¹–Ϋ–Α–Ι–Ω–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η! –ù–Ψ ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―² –≤ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ö. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Φ–Η―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Η―¹―¹ ―¹–Ψ –Ζ–Μ–Ψ–Φ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –≤―¹–Β–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ –≤―¹–Β―è –†―É―¹–Η¬Μ –≤ ―É–≥–Ψ–¥―É –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Δ―Ä–Ψ―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Α–Ϋ―²–Η―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Α–Ϋ―²–Η–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–≠―Ö–Ψ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄¬Μ –Κ–Ψ―â―É–Ϋ–Ϋ–Η―Ü –Η–Ζ ¬Ϊ–ü―É―¹–Η –†–Α–Ι–Ψ―²¬Μ, –≤―΄―¹–Φ–Β–Η–≤–Α―è –Ψ–±–≤–Η–Ϋ―è―é―â―É―é ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ζ–Α –Ϋ–Β―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Κ–Ψ―â―É–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –£ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ¬Ϊ–¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η¬Μ –Η–Ζ ¬Ϊ–ü―É―¹–Η –†–Α–Ι–Ψ―²¬Μ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ―É―²―¹―è –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―² –Ψ―â―É―²–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―²―é―Ä–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Α –Η –±―É–¥―É―² –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―é―² –Η―Ö –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ–Η, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η, –≤―΄–Ι–¥―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤―è―² –Η―¹–Κ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η―Ö ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ¬Μ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―²–Ψ―Ä–Β. –‰ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Μ–Η ―ç―²–Ψ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Α, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Β? –· ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ ¬Ϊ–ü―É―¹–Η –†–Α–Ι–Ψ―²¬Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Η –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –±―É–¥–Β―² –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ψ ―¹―É–¥–Β–±–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Η ―¹―É–¥―¨–±–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –ï―¹–Μ–Η ¬Ϊ–¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η¬Μ –±―É–¥―É―² –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ―΄, ―²–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Β―²―¹―è ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ –≤―¹―è–Κ–Η–Φ–Η ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Α–Φ–Η¬Μ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α―¹―²–Η –≤ –¥–Β–≤―è―²―΄–Ι –≤–Α–Μ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Α –≤ –Ξ―Ä–Α–Φ–Β –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è ―ç―²–Η―Ö ―¹―Ä–Α–Φ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–≤–Η―Ü –±―É–¥–Β―² –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Α, –Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –¥–Α―²―¨ –Ψ―â―É―²–Η–Φ―΄–Ι ―²―é―Ä–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≤–Α–¥–Ϋ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –±―΄―²―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―¹–Η–Μ―΄! –£ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Ϋ–Β―¹―²–Η –≤ ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–¥–Β–Κ―¹ ―¹―²–Α―²―¨―é –Ψ –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Β. –ü–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ–Η―Ä―É―è –™–Μ–Β–±–Α –•–Β–≥–Μ–Ψ–≤–Α, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ: ¬Ϊ–ö–Ψ―â―É–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Η–¥–Β―²―¨! –‰ –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² ―¹–Η–¥–Β―²―¨!¬Μ –‰–Β―Ä–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –®―É–Φ―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Μ–Η―Ä–Η–Κ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –€–Η―Ä–Μ–Η–Κ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ξ–Α–Φ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö. –†―É―¹―¹–Κ–Α―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Η–Ϋ–Η―è
|
–Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Α―² –±―Ä–Α–Κ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β. –‰–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ―² –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―è, –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Α―é―² –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –≤–Η–¥―΄ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η: –Ψ―²–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è, –¥–Β―²―¹–Κ–Α―è –Η –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Α―è. –™–¥–Β –Ϋ–Β―² –±―Ä–Α–Κ–Α, ―²–Α–Φ –Ϋ–Β―² –Η ―¹–Β–Φ―¨–Η.  "–ü―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ" –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é - ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ε–Η–≤―É―â–Η―Ö –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ "–±―Ä–Α–Κ–Β" –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α–¥―΄: –Η―Ö –¥–Β―²–Η "–Ϋ–Β ―à–Μ―è―é―²―¹―è, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Ψ" –£–≤–Η–¥―É –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―Ä–Α–Κ–Α –Η –±―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Α –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±―Ä–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Κ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Μ–Α–≥―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α. "–ü―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ" –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é - ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ε–Η–≤―É―â–Η―Ö –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ "–±―Ä–Α–Κ–Β" –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α–¥―΄: –Η―Ö –¥–Β―²–Η "–Ϋ–Β ―à–Μ―è―é―²―¹―è, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Ψ" –£–≤–Η–¥―É –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―Ä–Α–Κ–Α –Η –±―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Α –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±―Ä–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Κ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Μ–Α–≥―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α. –ö–Α–Κ –±–Ψ–≥–Ψ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±―Ä–Α–Κ –Η –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α–Φ –Η –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Ψ–Ι –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―¹–≤―è―²–Ψ―¹―²―¨―é. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±―Ä–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–≤―É―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Η–Φ–Β―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ―É –Ε–Β–Ϋ―É –Η –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Η–Φ–Β―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α, –Ω–Ψ―É―΅–Α–Β―² –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Α–≤–Β–Μ (1. –ö–Ψ―Ä. 7.2). –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –ë–Ψ–≥ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ε–Β–Ϋ―É –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Η –±―Ä–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥―É―é, ―²–Ψ ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –±―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―É –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α–Φ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Β–≥–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤: –Γ–Α–Φ –ë–Ψ–≥ –≤ –Ϋ–Β–¥―Ä–Α –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤, –≤–Μ–Η–≤ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –Ω–Ψ–±―É–¥–Η–Μ –Η―Ö ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¨―¹―è –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É. –ù–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Α―è –Ε–Β–Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ―É –Φ―É–Ε―É, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ –≤–Ψ–Ε–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ βÄ™ ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ, ―ç―²―É ―É–Ζ–¥―É –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Β―Ä―΄ –≤–Β―â–Β―¹―²–≤–Α. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Φ―É–Ε –Η –Ε–Β–Ϋ–Α, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Ι –Ε–Η–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ. –ö–Α–Κ ―Ä–Α―¹―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ ―É–Φ–Η―Ä–Α–Β―², ―²–Α–Κ –Η ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―é–Ζ, ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Ω―Ä–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ε–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ―É–Ε–Η–Η, ―²–Β―Ä―è–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –ö–Α–Κ ―¹–Ψ―é–Ζ ―²–Β―¹–Ϋ―΄–Ι, –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Ι –Η –Ϋ–Β―Ä–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Η–Φ―΄–Ι, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±―Ä–Α–Κ –Ϋ–Α–Μ–Α–≥–Α–Β―² –Ϋ–Α –Φ―É–Ε–Α –Η –Ε–Β–Ϋ―É –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η. –£ –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–Β―² –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Β–Ζ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―΄ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è. –‰ ―ç―²–Ψ βÄ™ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Η –Μ―é–±–≤–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Β―² –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Α–≤–Β–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Η –ö–Ψ―Ä–Η–Ϋ―³―è–Ϋ–Α–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Α, –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, βÄ™ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ, –Α –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―é–Ζ, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –≤–Ψ–Μ–Β–≤―΄–Φ–Η ―É―¹–Η–Μ–Η―è–Φ–Η.  –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Ι –Η –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α, –Γ–Α–Ϋ-–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―¹–Κ–Ψ, –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –€–Α―²–Β―Ä–Η "–£―¹–Β―Ö ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―è―â–Η―Ö ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨". –Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Α–Κ–Α –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―³―Ä–Α―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³ –Η –¥―Ä–Α–Φ–Α―²―É―Ä–≥ –™–Α–±―Ä–Η–Β–Μ―¨ –€–Α―Ä―¹–Β–Μ―¨: ¬Ϊ–Γ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É βÄ€―è ―²–Β–±―è –Μ―é–±–Μ―éβÄù βÄ™ ―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Φ―É βÄ€―²―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ –Ε–Η―²―¨ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²―΄ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―É–Φ―Ä–Β―à―¨βÄù...¬Μ. –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –Ψ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Β–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. –£ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Α–Κ –¥–Μ―è ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Η―Ü–Α –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α, –Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–≤–Ψ–Β ―¹–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ü–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –±―Ä–Α–Κ –Ϋ–Β―Ä–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Η–Φ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ―É–Ε–Α –Η –Ε–Β–Ϋ―É ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―² ―¹–Α–Φ –ë–Ψ–≥. –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Ι –Η –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α, –Γ–Α–Ϋ-–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―¹–Κ–Ψ, –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –€–Α―²–Β―Ä–Η "–£―¹–Β―Ö ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―è―â–Η―Ö ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨". –Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Α–Κ–Α –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―³―Ä–Α―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³ –Η –¥―Ä–Α–Φ–Α―²―É―Ä–≥ –™–Α–±―Ä–Η–Β–Μ―¨ –€–Α―Ä―¹–Β–Μ―¨: ¬Ϊ–Γ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É βÄ€―è ―²–Β–±―è –Μ―é–±–Μ―éβÄù βÄ™ ―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Φ―É βÄ€―²―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ –Ε–Η―²―¨ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²―΄ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―É–Φ―Ä–Β―à―¨βÄù...¬Μ. –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –Ψ―²–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Β–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. –£ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –±―Ä–Α–Κ –¥–Μ―è ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Η―Ü–Α –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α, –Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–≤–Ψ–Β ―¹–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Α –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ü–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –±―Ä–Α–Κ –Ϋ–Β―Ä–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Η–Φ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ―É–Ε–Α –Η –Ε–Β–Ϋ―É ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―² ―¹–Α–Φ –ë–Ψ–≥. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β, ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Γ–Β―Ä–±―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―à–Β―², ―΅―²–Ψ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Μ―é–±–≤–Η –Κ–Α–Κ –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―ç―²–Η–Φ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Β―â–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Η –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β –Η –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É. –£ –Ϋ–Α―à–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –±―Ä–Α–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α―é―â–Β–Ι―¹―è ―²–Β–Ϋ–¥–Β–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι. –Γ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–Φ–Ψ–¥–Α¬Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²―É ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É–Β―² –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Ι –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Α―Ü–Η–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –≤ –≥―Ä–Β―Ö, –Η –¥–Α–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β.  –Γ―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Η―Ä―É–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ - ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤–Ϋ–Β –±―Ä–Α–Κ–Α. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―à–Β―¹―²–Β―Ä―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –î–Ε–Ψ–Μ–Η –Η –ü–Η―²―² –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄. –Δ–Β, –Κ―²–Ψ ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―² –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α –≤―¹–Β―Ü–Β–Μ–Ψ, –Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ¬Ϊ–Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Α¬Μ, βÄ™ –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α―é―² –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –¥–Β―²―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à–Β―² –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –ê―Ä―²–Β–Φ–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤, ¬Ϊ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―â–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è ―É–≤–Α–Ε–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–Φ ―²―É ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è¬Μ. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Η―Ä―É–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ - ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤–Ϋ–Β –±―Ä–Α–Κ–Α. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―à–Β―¹―²–Β―Ä―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –î–Ε–Ψ–Μ–Η –Η –ü–Η―²―² –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄. –Δ–Β, –Κ―²–Ψ ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―² –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α –≤―¹–Β―Ü–Β–Μ–Ψ, –Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ¬Ϊ–Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Α¬Μ, βÄ™ –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α―é―² –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –¥–Β―²―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à–Β―² –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –ê―Ä―²–Β–Φ–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤, ¬Ϊ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―â–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è ―É–≤–Α–Ε–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–Φ ―²―É ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è¬Μ. –£–Ϋ–Β –±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―é–Ζ–Ψ–≤ –¥–Β―²–Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –±―΄–≤–Α―é―² –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α―è―¹―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, ¬Ϊ–Ω–Ψ –Ψ―à–Η–±–Κ–Β¬Μ βÄ™ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Κ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―², –≤–Β–¥―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ, ―ç―²–Η –¥–Β―²–Η –±―É–¥―É―² –Μ–Η―à–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄―Ö –Ω–Α―Ä ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Α–±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―²–Β–Ι ―É –Ω–Α―Ä, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ¬Ϊ–≤–Β–Ϋ―Ü–Ψ–Φ¬Μ –Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι.  6 –Φ–Α―è 2012 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄ –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨ –™―Ä―É–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω–Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ 400 –¥–Β―²–Β–Ι. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±–Β–Ζ –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –Β–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è―Ö. –€–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ι –Γ―É―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–≤ –Φ–Η―Ä–Β, –≥–¥–Β –≤―¹–Β –Η–¥–Β―² –≤―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ–¥, –±―Ä–Α–Κ βÄ™ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –¥–≤–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β―²―¹―è, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η¬Μ. –ö–Α–Κ ―¹–Ψ―é–Ζ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –±―Ä–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–±–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α –±―Ä–Α–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Β―Ä–Β–Ε–Β―², ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―² –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ―é–Ζ –¥–≤–Ψ–Η―Ö. 6 –Φ–Α―è 2012 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄ –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨ –™―Ä―É–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω–Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ 400 –¥–Β―²–Β–Ι. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±–Β–Ζ –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –Β–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è―Ö. –€–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ι –Γ―É―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–≤ –Φ–Η―Ä–Β, –≥–¥–Β –≤―¹–Β –Η–¥–Β―² –≤―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ–¥, –±―Ä–Α–Κ βÄ™ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –¥–≤–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β―²―¹―è, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η¬Μ. –ö–Α–Κ ―¹–Ψ―é–Ζ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –±―Ä–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–±–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α –±―Ä–Α–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Β―Ä–Β–Ε–Β―², ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―² –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ―é–Ζ –¥–≤–Ψ–Η―Ö. –ù–Α ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Η―¹–Μ–Α –Ϋ–Β―É–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―é–Ζ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤–Μ–Η―è–Β―² ―É―¹–Η–Μ–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –±―Ä–Α–Κ―É. –û –Ϋ–Β–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ―²–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Κ–Α–Κ –Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ι ―²―è–≥–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι –Ω–Ψ ―Ä―É–Κ–Α–Φ –Η –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ –Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―É, –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É, βÄ™ –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α ―¹–Β–Κ―¹―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ϋ–Β –±―Ä–Α–Κ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à―É―é―¹―è –≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é, ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―Ä–Α–Κ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É–Β―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―¹–Ψ―é–Ζ–Β –¥–≤–Ψ–Η―Ö. –£–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ε–Β –Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―² ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Β–Β –≤ –≤―΄―¹―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –ë―Ä–Α–Κ –Η ―¹–Β–Φ―¨―è ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α. –£―¹–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η–Β ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α –±―Ä–Α–Κ–Α ―Ä–Η―¹–Κ―É―é―² ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β–Φ –Η –±―É–¥―É―â–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Η.
|
 –†–Ψ―¹―² –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ξ–Ξ –≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η―Ö―¹―è ―¹–Β–Φ―¨–Η[1]. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö, –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄―Ö, ―΅–Β–Φ –†―É–Φ―΄–Ϋ–Η―è, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―² –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ ―É―Ö―É–¥―à–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –±―Ä–Α–Κ, –Κ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―Ä–Α–Κ–Ψ–Φ, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―é –Ϋ–Α―¹–Η–Μ–Η―è –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―é –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α. –†–Ψ―¹―² –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ξ–Ξ –≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η―Ö―¹―è ―¹–Β–Φ―¨–Η[1]. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö, –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄―Ö, ―΅–Β–Φ –†―É–Φ―΄–Ϋ–Η―è, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―² –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ ―É―Ö―É–¥―à–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –±―Ä–Α–Κ, –Κ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―Ä–Α–Κ–Ψ–Φ, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―é –Ϋ–Α―¹–Η–Μ–Η―è –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―é –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, ―΅―²–Ψ –Ε–Η―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –¥–Ψ ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –≤―΄–±–Ψ―Ä, –Ψ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è―¹―¨, –Ω―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ―è―é―² ―²–Β–±―è –Κ ―³–Α–Ϋ–Α―²–Η–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―Ä–Β–Α–Μ–Η―è–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι. –Γ–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –±―Ä–Α–Κ–Α –Η–Μ–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ¬Μ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ –Μ―É―΅―à–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –±―É–¥―É―â–Η―Ö ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ βÄ™ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –±―Ä–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ε–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α? –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β, –≥–¥–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―²–Ψ–Ι, –≥–¥–Β –≤―¹–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η, –Φ―΄ –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β–Φ―¹―è –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –≥–Α―Ä–Α–Ϋ―²–Η–Η, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―à–Α–≥, ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β–Φ―¹―è ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –î–Α –Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² ―ç―²–Ψ―² ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, ―É―΅–Α: ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹―ä–Β―¹―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω―É–¥ ―¹–Ψ–Μ–Η. –Γ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ―¹–Μ–Α–±–Μ―è–Β―² –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Α–Ε–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ βÄ™ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η βÄ™ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Η –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Μ–Η –Φ―΄ ―É–Ε–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –≤―΄–±–Ψ―Ä –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –¥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ, ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―è, ―²―΄ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―à―¨―¹―è –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –±―Ä–Α–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―É ―²–Β–±―è –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―²―¹―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄ ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –Η–Μ–Η ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤, ―²–Β–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―à–Α–≥ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨–±―΄. –½–Α ―ç―²–Η–Φ –Ψ―²–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –±―Ä–Α–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―é―², –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―²―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι ―à–Α–≥. –î―Ä―É–≥–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι: –Η―â–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α (–Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä―à―É), –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Β–Φ –≤ –Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―²–Η–Ω―É –Ω―Ä–Ψ–± –Η –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Η―²–Ψ–≥–Β –Η–Ζ–Φ–Ψ―²–Α―é―² –Ϋ–Α―¹, –Η –Ϋ–Α―à–Α ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―è –Η―¹―΅–Β―Ä–Ω–Α–Β―²―¹―è, –Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―É–Ι–¥―É―². –‰ –Φ―΄ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –±―É–¥–Β–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É: ¬Ϊ–û–Ϋ (–Ψ–Ϋ–Α) –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―²βÄΠ –ê―Ö, –¥–Α –Η ―è –≤–Β–¥―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ(–Α)¬Μ. –ù–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Β–Κ –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ ―¹–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –≠―²–Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä―É―é―², ―΅―²–Ψ, –≤–Ψ–Ω―Ä–Β–Κ–Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ. –Γ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ: ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ 60% –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤, –Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –≤ –±―Ä–Α–Κ –Η–Φ–Β―é―²―¹―è ―É 75% ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Ω–Α―Ä. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Φ―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Η–Φ, –Κ–Α–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ψ–±―â–Β―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Β ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α―Ö –ö–Α–Ϋ–Α–¥―΄, –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η –Η –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤, –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²: –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―É―² –Κ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―², ―΅―²–Ψ –Ψ―² 50 –¥–Ψ 80% ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä, –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ε–Η–≤―à–Η―Ö –¥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è, –Η ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Β, ―΅–Β–Φ ―É ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –¥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α. –‰―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ–± ¬Ϊ―ç―³―³–Β–Κ―²–Β ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä ―¹ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―¹–Μ–Α–±–Β–≤–Α–Β―², –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―Ä–Α―¹―²–Β―² –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –≤ –Η―²–Ψ–≥–Β –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥―É, ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―¹–Β ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Α―è: ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―è –¥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α, –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―é―² –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―â–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β –Η –Φ–Α–Ϋ–Η–Ω―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –Γ–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α –±–Β―¹–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –ü―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –î–Ε–Β–Ι –Δ–Η―΅–Φ―ç–Ϋ –Η–Ζ –Θ–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Α―à–Η–Ϋ–≥―²–Ψ–Ϋ–Α ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ―΄―Ö ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Μ―è―Ü–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–Ψ–±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Α–¥–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Α¬Μ. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –±―Ä–Α–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α–Φ–Η ―¹―²―Ä–Ψ―è―²―¹―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η, –Α –Η―Ö –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ϋ–Α –±―É–¥―É―â–Β–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ―΄–Φ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –¥–Η–Κ―²―É―é―² –Ϋ–Α–Φ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β: ¬Ϊ–· –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ(–Α) –≤ ―²–Β–±–Β. –ù–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨: –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ι–¥–Β―²¬Μ, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –±―Ä–Α–Κ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²: ¬Ϊ–· ―Ö–Ψ―΅―É ―²–Β–±―è –≤―¹–Β–≥–Ψ (–≤―¹―é) –±–Β–Ζ –Η–Ζ―ä―è―²–Η–Ι, ―¹ ―²–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Μ―é―¹–Α–Φ–Η –Η –Φ–Η–Ϋ―É―¹–Α–Φ–Η, –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ (–≤―¹―é) ―¹–Β–±―è –Ψ―²–¥–Α―é ―²–Β–±–Β¬Μ. –ö–Α–Κ –≤–Η–¥–Η–Φ, ―Ä–Β―΅―¨ –Η–¥–Β―² –Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―â–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―²–Β–Κ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –Η–Ζ –¥―Ä―É–≥–Α; ―¹–Ψ―Ü–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ε–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ –≤―΄–≤–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ –Η–¥–Β―è ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –¥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α βÄ™ –Η–¥–Β―è ―É―â–Β―Ä–±–Ϋ–Α―è –Η –Ϋ–Β–Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è.
|
–£–Ψ –Η–Φ―è –û―²―Ü–Α –Η –Γ―΄–Ϋ–Α –Η –Γ–≤―è―²–Α–≥–Ψ –î―É―Ö–Α! –î―Ä―É–≥–Η –Ϋ–Α―à–Η, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –≤ –ù–Β–¥–Β–Μ―é –Ψ –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ –Γ―É–¥–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Φ, –≥―Ä―è–¥―É―â–Β–Φ, –Κ–Α–Κ ―²–Α―²―¨, –Ϋ–Α –≤―¹―é –≤―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é, –¥–Ϋ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β―à–Η―²―¹―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²―¨ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ε–Η–≤―É―â–Β–≥–Ψ –Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―É―¹–Μ―΄―à–Η―² –Η–Μ–Η: βÄ€βÄΠ–Ω―Ä–Η–Η–¥–Η―²–Β, –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Η –û―²―Ü–Α –€–Ψ–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―É–Ι―²–Β ―É–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Α–Φ –Π–Α―Ä―¹―²–≤–Η–Β –Ψ―² ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä–ΑβÄù, –Η–Μ–Η: βÄ€βÄΠ–Η–¥–Η―²–Β –Ψ―² –€–Β–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²–Η–Η, –≤–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―¨ –≤–Β―΅–Ϋ―΄–Ι, ―É–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Α–≤–Ψ–Μ―É –Η –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–Φ –Β–≥–ΨβÄù βÄî –Φ–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –¥–Μ―è –≤–Α―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ε–Η–≤–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ψ–± –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Α–¥―¹–Κ–Η―Ö –Φ―É–Κ, –Ψ–Ε–Η–¥–Α―é―â–Η―Ö ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Η―² ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α: βÄ€βÄΠ–Ψ―²―΄–¥–Η―²–Β –Ψ―² –€–Β–Ϋ–ΒβÄΠβÄù (–€―³. 25, 34, 41). –‰ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–±―É–Ε–¥–Α–Β―² –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ –Ω–Η―¹–Β–Φ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –±–Β―¹–Β–¥―΄ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, ―É–Ε–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ε–¥―É―â–Η–Φ–Η –Ψ―² –±–Β―¹–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Η–Μ–Η―è –Η –Ψ–±–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Η ―É–Ε–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α―¹–Α―é―â–Η–Φ–Η―¹―è –Κ ―ç―²–Η–Φ –Φ―É–Κ–Α–Φ. –û―΅–Β–Ϋ―¨-–Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―é―² –Η―Ö ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―². –‰ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η―â―É―² –Μ―é–¥–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Η –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―². –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ ―É–Κ–Α–Ε–Β―² –≤―¹–Β–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ε–¥―É―â–Η–Φ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α –Η –Ω―É―²―¨ –Κ –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é βÄî ―ç―²–Ψ –≤–Β―Ä–Α, –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Η –ë–Ψ–Ε–Η–Η –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α–Ε–¥―É―â–Η–Φ –≤ –Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α―Ö –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤ βÄî βÄ€―¹–Μ―É–Ε–Κ–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤βÄù, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ ―¹–Β–±―è –Μ―é–±–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨,βÄî ―²–Ψ―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Μ―¹―è ―΅―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α–Φ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è, –Α –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Μ–Η―Ü–Β–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―΅–Α–Φ–Η ―¹–Η―è–Ϋ–Η―è –Μ–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α –Λ–Α–≤–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –î―É―Ö–Α. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–≥–Ψ –Η –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α, –¥–Α–±―΄, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Ψ―²―Ü–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α, –Ψ–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α, –≤ –ö―É―Ä―¹–Κ, –Η ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –Η ―é–Ϋ–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –ö–Η–Β–≤–Ψ-–Λ–Μ–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨. –ü–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α ―ç―²–Α –Η–Φ–Β–Μ–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―²―è–Ε–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è –¥–Μ―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α: –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η―é –ë–Ψ–Ε–Η―é –Ψ―² –≤―Ä–Α–≥–Α, –Η–Ζ–Μ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Β―¹―²―¨ –Ζ–Α ―²―Ä―É–¥, –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Κ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è, –Ψ―²―Ü–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α. –û–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤–Α –Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è―é―â–Η–Β –Β–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, –±―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β. –ö–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤ –±–Β―¹–Β–¥–Β ―¹ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–Φ –Ζ–Α―à–Β–Μ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ –≤―Ä–Α–Ε―¨–Η―Ö –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Γ–≤–Β―²―¹–Κ–Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Ϋ―É–Μ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―É―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –≤ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ζ–Μ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ –Β–Φ―É –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ –±–Β―¹–Α–Φ–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 1000 –Ϋ–Ψ―΅–Β–Ι –Η 1000 –¥–Ϋ–Β–Ι. –ê–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–≤―è―²–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Η–Μ–Ψ―é ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –¥–Α–Ε–Β ―²–Β–Ϋ–Η –Μ–Ε–Η –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü ―É–±–Β–¥–Η–Μ –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤–Α –≤ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –±–Β―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤ –Ω―Ä–Η–Ζ―Ä–Α–Κ–Α―Ö –Η–Μ–Η –Φ–Β―΅―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Α –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü―΄–Μ–Κ–Η–Ι –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤ ―²–Α–Κ –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ―² –¥―É―à–Η –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ: βÄî –ë–Α―²―é―à–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―è ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹ –±–Β―¹–Α–Φ–Η! –ë–Α―²―é―à–Κ–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ –Η―¹–Ω―É–≥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–Μ –Β–≥–Ψ: βÄî –ß―²–Ψ –≤―΄, ―΅―²–Ψ –≤―΄, –≤–Α―à–Β –ë–Ψ–≥–Ψ–Μ―é–±–Η–Β! –£―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β. –½–Ϋ–Α–Μ–Η –±―΄ –≤―΄, ―΅―²–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Η–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–≥―²–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –≤―¹―é –Ζ–Β–Φ–Μ―é, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―¨–±―É ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η! βÄî –ê ―Ä–Α–Ζ–≤–Β, –±–Α―²―é―à–Κ–Α, ―É –±–Β―¹–Ψ–≤ –Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ–≥―²–Η? βÄî –≠―Ö, –≤–Α―à–Β –ë–Ψ–≥–Ψ–Μ―é–±–Η–Β, –≤–Α―à–Β –ë–Ψ–≥–Ψ–Μ―é–±–Η–Β, –Η ―΅–Β–Φ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Α―¹ –≤ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β ―É―΅–Α―²?! –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ ―É –±–Β―¹–Ψ–≤ –Κ–Ψ–≥―²–Β–Ι –Ϋ–Β―². –‰–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―é―² –Η―Ö ―¹ –Κ–Ψ–Ω―΄―²–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ–≥―²―è–Φ–Η, ―Ä–Ψ–≥–Α–Φ–Η, ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≥–Ϋ―É―¹–Ϋ–Β–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α –Η –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α―²―¨. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –≤ –≥–Ϋ―É―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ψ–Ϋ–Η –Η –Β―¹―²―¨, –Η–±–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η―Ö –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Η–Ζ –ê–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–≤ ―¹–≤–Β―²–Α, –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ –Ψ―²–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ –Η―Ö –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Α–Φ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²―¨–Φ―΄ –Η –Φ–Β―Ä–Ζ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β–Φ, –Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ,βÄî –≤–Ψ―² –Η―Ö –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―é―² ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η. –ù–Ψ, –±―É–¥―É―΅–Η ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ―΄ ―¹ ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Η ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α–Φ–Η –ê–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―² ―²–Α–Κ–Η–Φ –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Φ―΄–Φ –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ,―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Κ–Α–Κ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è –≤–Α–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–≥―²–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –≤―¹―é –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –û–¥–Ϋ–Α –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –£―¹–Β―¹–≤―è―²–Α–≥–Ψ –î―É―Ö–Α, ―²―É–Ϋ–Β –¥–Α―Ä―É–Β–Φ–Α―è –Ϋ–Α–Φ, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ, –Ζ–Α –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η –ë–Ψ–≥–Ψ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ζ–Μ–Ψ―É―Ö–Η―â―Ä–Β–Ϋ–Η―è –≤―Ä–Α–Ε–Η–Η. –•―É―²–Κ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤―É. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β, –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Α―â–Η―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Β –±–Ψ―è―²―¨―¹―è –Ζ–Μ–Ψ–±―΄ ―¹–Α―²–Α–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Η–Ι –≤―΄–Ζ–Ψ–≤, –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η―é –ë–Ψ–Ε–Η―é, –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι βÄî –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―². –ö–Ψ–≥–¥–Α –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ―΄ ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –≤ –ö―É―Ä―¹–Κ, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–Φ―É ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –Η ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ë–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤―à–Η–Β –Ψ―²―Ü–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α –≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η, –Η–Μ–Η ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Η, –Η–Μ–Η –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –î–Α–Ε–Β –¥–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι, –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ, –Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –Β–≥–Ψ –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η. –ù–Α―à–Β–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ, ―Ä–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Η–Κ –±–Α―²―é―à–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η –¥–Α–Μ –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤―É ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ε–Η―²–Η―è –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α. –ü–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Α –≤ –ö―É―Ä―¹–Κ –Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Β–Φ –±―΄–Μ–Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄. –™―Ä–Ψ–Ζ–Α –Ε–¥–Α–Μ–Α –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –≤ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε. –ù–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι, –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Η–Ζ –ö―É―Ä―¹–Κ–Α, –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―΅–Β–≤–Α―²―¨. –û―¹―²–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Η―Ö, –Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ –Η–Ζ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Η –Η ―¹―²–Α–Μ –Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η ―²―É―¹–Κ–Μ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Β―΅–Η, –Β–Μ–Β –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–≤―à–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É. –û–¥–Ϋ–Ψ―é –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Ψ–± –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Ι –¥–Β–≤–Η―Ü―΄ –Η–Ζ –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ, –ï―Ä–Ψ–Ω–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι, ―É ―Ä–Α–Κ–Η ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ–Α –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. βÄ€–· –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è,βÄî –Ω–Η―à–Β―² –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤,βÄî –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Κ–Α, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â–Α―é―â–Α―è―¹―è –ü―Ä–Β―΅–Η―¹―²―΄―Ö –Η –•–Η–≤–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―è―â–Η―Ö –Δ–Α–Η–Ϋ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö, –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ–Α –±–Β―¹–Ψ–Φ, –Η –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –Μ–Β―². –‰ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ ―è: –≤–Ζ–¥–Ψ―Ä! –≠―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²! –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –±―΄ ―è, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Μ –≤ –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –±–Β―¹, ―Ä–Α–Ζ ―è ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α―é –Κ –Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤―É –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Η―΅–Α―â–Β–Ϋ–Η―è!..βÄù –‰ –≤ ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Β, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Η–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Β–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Η―¹–Ϋ―É―²―΄–Β ―É―¹―²–Α. –ö–Α–Κ –Ϋ–Η –±–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Ι –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α―â–Η―²–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è –Ψ―² –Μ―¨–¥–Α –Η ―¹–Φ―Ä–Α–¥–Α –≤–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α, –Ψ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―¹–Β, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è. –†―É–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―è; –Ζ–Α―¹―²―΄–≤―à–Α―è –Ψ―² ―É–Ε–Α―¹–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–≤–Α. –û―²–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –¥–Μ―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―²―è–≥―΅–Α–Ι―à–Η―Ö –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι. –Γ–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹―¨ –Β–≥–Ψ –¥–Α–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ –Φ―É–Κ: βÄ€–™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Α –Ϋ–Β –≤–Ψ ―¹–Ϋ–Β –Η –Ϋ–Β –≤ –Ω―Ä–Η–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Η, ―²―Ä–Η –≥–Β–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Φ―É–Κ–Η. –ü–Β―Ä–≤–Α―è βÄî –Ψ–≥–Ϋ―è –Ϋ–Β―¹–≤–Β―²–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Β―É–≥–Α―¹–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, –Κ–Α–Κ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η―é –î―É―Ö–Α –Γ–≤―è―²–Α–≥–Ψ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―ç―²–Α –Φ―É–Κ–Α –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Β―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―è ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–Ε–Η–≥–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–≥–Ψ―Ä–Α–Μ. –Γ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Η–Μ–Η ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―¹―É―²–Κ–Η ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―ç―²―É –≥–Β–Β–Ϋ―¹–Κ―É―é ―¹–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö. –ü–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η ―ç―²–Η –Φ―É–Κ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –Η –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Γ–≤―è―²―΄―Ö –Δ–Α–Η–Ϋ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α–Φ–Η –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η―è –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Φ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―¹–Β–Φ–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Α–Φ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Η–Φ –Η –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è–Φ –Ζ–Α–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α –±–Ψ–Μ―è―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –Β–Κ―²–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –£―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ―É–Κ–Α βÄî –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ βÄî ―²–Α―Ä―²–Α―Ä–Α –Μ―é―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Β–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Β–≥, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥. –ü–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―é –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω―Ä–Β–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α (–Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η―è) ―è ―¹ –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―Ä―É–Κ―É –Ϋ–Α–¥ ―¹–≤–Β―΅–Ψ–Ι, –Η –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹―è –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ω―²–Β–Μ–Α –¥–Ψ–Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥―Ä–Β–Μ–Α―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β. –û–Ω―΄―² ―ç―²–Ψ―² ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Μ–Η―¹―²–Β –Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é ―Ä―É–Κ―É –Φ–Ψ―é, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ω―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Ε–Β–Ι, –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ. –ù–Ψ –Ψ–±–Β ―ç―²–Η –Φ―É–Κ–Η, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –Γ–≤―è―²―΄―Ö –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤―΄―Ö –Δ–Α–Η–Ϋ, –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β―¹―²―¨ –Η –Ω–Η―²―¨, –Η ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥ ―è –Ω―Ä–Η –Ϋ–Η―Ö, –Η –≤–Η–¥–Η–Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β–Φ–Η. –ù–Ψ ―²―Ä–Β―²―¨―è –Φ―É–Κ–Α –≥–Β–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―¹―É―²–Ψ–Κ ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Μ–Α―¹―¨, –Η–±–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α ―¹―É―²–Ψ–Κ –Η –Β–¥–≤–Α –Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ –±―΄–Μ ―É–Ε–Α―¹ –Η ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Η―¹―É–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ. –ö–Α–Κ ―è –Ε–Η–≤ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –Ϋ–Β―è! –‰―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―² –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –Η –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Γ–≤―è―²―΄―Ö –Δ–Α–Η–Ϋ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö. –ù–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―¹–Α–Φ –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ι –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–Κ –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ϋ―΄–Φ–Η. –≠―²–Α –Φ―É–Κ–Α –±―΄–Μ–Α βÄî ―΅–Β―Ä–≤―è –Ϋ–Β―É―¹―΄–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―΅–Β―Ä–≤―¨ ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –±–Ψ–Μ–Β–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –±―΄–Μ –≤–Η–¥–Β–Ϋ; –Ϋ–Ψ ―è –≤–Β―¹―¨ ―¹–Α–Φ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Β–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Α–Η–Ζ–Μ–Β–Ι―à–Η–Φ ―΅–Β―Ä–≤–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Μ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β –≤―¹–Β–Φ –Η –Ϋ–Β–Η–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Η–Φ–Ψ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –≥―Ä―΄–Ζ –≤―¹―é –Φ–Ψ―é –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α―é―΅–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ä–Ψ―², ―É―à–Η –Η –Ϋ–Ψ―¹, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è. –ë–Ψ–≥ –¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Η–Μ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Η ―è –Φ–Ψ–≥ –±―Ä–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –Η ―Ä–Α―¹―²―è–≥–Η–≤–Α―²―¨. –· –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α―è–≤–Μ―è―é ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β, –Η–±–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ ―¹–≤―΄―à–Β –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Α –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―è –¥–Β―Ä–Ζ–Α―é –≤―¹―É–Β –Η–Φ―è –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α―²―¨. –ù–Β―²! –£ –¥–Β–Ϋ―¨ –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―É–¥–Α –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è –Γ–Α–Φ –û–Ϋ –ë–Ψ–≥, –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Η –ü–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–Ι, –Ζ–Α―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―², ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Β –Μ–≥–Α–Μ –Ϋ–Α –ù–Β–≥–Ψ, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –Η –Ϋ–Α –ï–≥–Ψ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Α –¥–Β―è–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–ΒβÄù. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤ –Η–Φ–Β–Μ –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―è, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É―²–Β―à–Η–Μ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ―¨―Ü–Α –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –¥–Α–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –Φ–Ψ―â–Β–Ι ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Α –½–Α–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―΅―²–Ψ –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤―¹–Β–Μ–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –±–Β―¹ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² ―É–Ε–Β –Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ –Φ―É―΅–Η―²―¨. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹ –Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Μ–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β, –Η –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Ε–¥–Α–Μ―¹―è, –¥–Ψ–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Η –Η―¹―Ü–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Β―Ä–Β –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Φ–Ψ―â–Β–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Α –½–Α–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ 1861 –≥–Ψ–¥―É. –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤ ―¹―²–Ψ―è–Μ –≤ –Α–Μ―²–Α―Ä–Β, –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Η –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Β―² –Β–Φ―É –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α –Γ–Α―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–¥–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Η–Ζ–Φ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥―É―à–Α. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Β–Ϋ–Η―è –Ξ–Β―Ä―É–≤–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ψ–Ϋ –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –Δ–Η―Ö–Ψ–Ϋ–Α. –Γ–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Μ –Ω–Μ–Α―΅―É―â–Β–≥–Ψ –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤–Α –Η ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ. –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –‰ –≤–Ψ―², –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –Φ–Ψ–Η, ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Β―² –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: βÄ€–ö–Α–Κ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Η –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―²–Α–Κ–Α―è ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α―è –Φ―É–Κ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Α –≤–Β―Ä―É―é―â–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α?!βÄù –€―΄ ―¹ –≤–Α–Φ–Η, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –Φ–Ψ–Η, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –ë–Ψ–≥–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Β–Ϋ―¨ –Κ–Α–Κ ―²―΄―¹―è―΅–Α –Μ–Β―², –Η ―²―΄―¹―è―΅–Α –Μ–Β―² –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Β–Ϋ―¨. –‰ ―΅―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―à–Α –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Α―è βÄî –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ―É–Ω–Μ–Η –Η–Μ–Η –≤–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –±–Μ–Α–≥, –Η–Μ–Η –≤–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ―É–Κ. –ë―É–¥―É―΅–Η –≤ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–Φ, –€–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Μ―é–±–≤–Η –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ε–Α–Ε–¥–Α–Μ –Η –≤ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ―É―΅–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –‰ –≤–Ψ―² ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Ι, ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Μ–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ, –Ζ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Α–≤–Ψ–Ι –≤ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Δ–Α–Κ –¥–Α–Ι –Ϋ–Α–Φ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ϋ–Β ―²―É–Ϋ–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Η―² –Ϋ–Α ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤―¹–Β–Μ–Η―² –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É, ―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö ―É―¹―²―Ä–Α―à–Η―² –Ψ–Ε–Η–¥–Α―é―â–Β–Ι –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –‰ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Η―² –Ϋ–Α –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ψ–Φ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η―à–Β―¹―²–≤–Η―è –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è. –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η, ―¹–Μ–Α–≤–Α –Δ–Β–±–Β –Ζ–Α ―¹–Β–±―è –Η –Ζ–Α –≤―¹–Β―Ö, –Ζ–Α –≤―¹―ë –Η –Ζ–Α –≤―¹―è. –Γ–Μ–Α–≤–Α –Δ–Β–±–Β! –ê–Φ–Η–Ϋ―¨. 9 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è, 2007–≥. –ê―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ ( –ö―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Κ–Η–Ϋ ).
|
¬ΪβÄΠ –‰ –±–Η–Μ–Η –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β ―²―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –Η –Ω–Μ–Β–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –ù–Β–≥–ΨβÄΠ –Η –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Η –ï–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α―¹–Ω―è―²―¨βÄΠ ―¹–±―΄–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è: ¬Ϊ–Η –Κ –Ζ–Μ–Ψ–¥–Β―è–Φ –Ω―Ä–Η―΅―²–Β–Ϋ¬Μ. (–€–Κ. 15, 19-20, 28).  –Δ–Ψ―², –ö―²–Ψ –¥–Ψ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ, ―². –Β. –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä–Α, ―É–Ε–Β –±―΄–Μ βÄî ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –Δ–Ψ―², –ö―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –±–Ψ–≥–Ψ-―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –±―΄―²–Η–Β –Η –Ψ–±–Η―²–Α–Μ –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β, –Ϋ–Η–Κ–Β–Φ –Η–Ζ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ (1 –Δ–Η–Φ. 6, 16), βÄî ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ; –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ βÄî –≤ ―¹―²–Ψ–Ι–Μ–Β –¥–Μ―è ―¹–Κ–Ψ―²–Α (–¦–Κ. 2, 7). –‰–Ζ –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Α –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ (–‰–Ϋ. 17, 5; 2–ü–Β―². 1, 17; 2 –ö–Ψ―Ä. 3, 7; 1 –Γ–Ψ–Μ. 2, 12; –ï–≤―Ä. 1, 3) –Γ―΄–Ϋ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι, –Ω–Ψ ―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤―É ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤–Ψ–Ι, –≤―¹–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à –Φ–Η―Ä. –‰ –Ε–Η–≤–Β―² –≤ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Η –Ψ―² ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ ―Ä–Α–±–Α. –Δ–Β―Ä–Ω–Η―² –±–Η―΅–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―â–Β―΅–Η–Ϋ―΄, –Ω–Μ–Β–≤–Κ–Η –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ¬Ϊ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Β –Η –Ψ–Φ–Β―Ä–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Η―¹―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Π–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Ϋ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―É―é –Φ―É–Κ―É –Η ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ë–Ψ–≥–Α, –Ψ–±–Ϋ–Η―â–Α–Ϋ–Η–Β –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Γ–Μ–Α–≤―΄ (–Λ–Μ–Ω. 2, 7; 2 –ö–Ψ―Ä. 8, 9; 1–ö–Ψ―Ä. 2, 8). –û–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Η –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –û–Ϋ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è –≤ –¥―É―à–Β ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Η ―¹ ―É–Ε–Α―¹–Α―é―â–Β–Ι ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Γ–Α–Φ–Η–Φ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Ι (–€–Κ. 15, 34; –€―³. 26, 39). –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Δ–Ψ―², –¥–Μ―è –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β –Η –Ψ―² –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β, –±―΄–Μ –±―΄ –£–Ψ–Ε–¥–Β–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α, –≤ –Η―¹―²–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Η –ï–≥–Ψ (–ï–≤―Ä. 2, 10). –Δ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ (–€―³. 26, 54). –Δ–Ψ―², –ö―²–Ψ –¥–Ψ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ, ―². –Β. –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä–Α, ―É–Ε–Β –±―΄–Μ βÄî ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –Δ–Ψ―², –ö―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –±–Ψ–≥–Ψ-―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –±―΄―²–Η–Β –Η –Ψ–±–Η―²–Α–Μ –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β, –Ϋ–Η–Κ–Β–Φ –Η–Ζ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ (1 –Δ–Η–Φ. 6, 16), βÄî ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ; –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ βÄî –≤ ―¹―²–Ψ–Ι–Μ–Β –¥–Μ―è ―¹–Κ–Ψ―²–Α (–¦–Κ. 2, 7). –‰–Ζ –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Α –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ (–‰–Ϋ. 17, 5; 2–ü–Β―². 1, 17; 2 –ö–Ψ―Ä. 3, 7; 1 –Γ–Ψ–Μ. 2, 12; –ï–≤―Ä. 1, 3) –Γ―΄–Ϋ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι, –Ω–Ψ ―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤―É ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤–Ψ–Ι, –≤―¹–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à –Φ–Η―Ä. –‰ –Ε–Η–≤–Β―² –≤ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Η –Ψ―² ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ ―Ä–Α–±–Α. –Δ–Β―Ä–Ω–Η―² –±–Η―΅–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―â–Β―΅–Η–Ϋ―΄, –Ω–Μ–Β–≤–Κ–Η –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ¬Ϊ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Β –Η –Ψ–Φ–Β―Ä–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Η―¹―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Π–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Ϋ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―É―é –Φ―É–Κ―É –Η ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ë–Ψ–≥–Α, –Ψ–±–Ϋ–Η―â–Α–Ϋ–Η–Β –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Γ–Μ–Α–≤―΄ (–Λ–Μ–Ω. 2, 7; 2 –ö–Ψ―Ä. 8, 9; 1–ö–Ψ―Ä. 2, 8). –û–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Η –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –û–Ϋ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è –≤ –¥―É―à–Β ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Η ―¹ ―É–Ε–Α―¹–Α―é―â–Β–Ι ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Γ–Α–Φ–Η–Φ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Ι (–€–Κ. 15, 34; –€―³. 26, 39). –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Δ–Ψ―², –¥–Μ―è –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β –Η –Ψ―² –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β, –±―΄–Μ –±―΄ –£–Ψ–Ε–¥–Β–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α, –≤ –Η―¹―²–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Η –ï–≥–Ψ (–ï–≤―Ä. 2, 10). –Δ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ (–€―³. 26, 54).
–‰ –≤–Ψ―², ―¹―²–Ψ–Η–Φ –Φ―΄ ―¹ –≤–Α–Φ–Η, ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–Ι –±–Β―¹–Β–¥―΄ –Ψ –ö―Ä–Β―¹―²–Β –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Β–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ¬Μ –Η ¬Ϊ–¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ ―É–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹–Ψ–Φ –Ζ–Α―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Γ–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–≥–Α. –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É–Β–Φ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Κ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨ –≤ ―¹–Β–±–Β –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―É―é ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É–Β–Φ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ, –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ω―΄―²―É, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―à–Μ–Α ―Ä–Β―΅―¨ –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Α–Ι–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è –ë–Ψ–≥–Α –Ϋ–Β–Ψ―²–¥–Β–Μ–Η–Φ–Ψ –Ψ―² –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Δ―Ä–Η–Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α. –û–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α–Β―² –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –ë–Ψ–≥–Α –ï–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Δ―Ä–Β―Ö –¦–Η―Ü–Α―Ö. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Μ–Η –Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Δ―Ä–Η–Η–Ω–Ψ―¹―²–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–≥–Α, –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Ψ–¥ –Α–±―¹―²―Ä–Α–Κ―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–Φ–Α. –û–Ϋ–Ψ ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Η―Ä―É, –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –†–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Γ–Α–Φ –ë–Ψ–≥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Γ–Β–±―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –≤ ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β–±―è –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α, –Α –≤ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –¥–Ψ–±―Ä–Ψ. –‰ –Β―¹–Μ–Η –≤ ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö, –Α–¥–Β–Κ–≤–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è―Ö –Ϋ–Η ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Η ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –Ϋ–Β–≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Φ, ―²–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ. –û―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η–≤–Α―é―â–Η–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –±―É–¥―É―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Α, ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α–¥ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ε–Η–≤–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ ―²―É―² –Ϋ–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Α, –Α –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α, –Ψ–±–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ψ–Φ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è ¬Ϊ–Η―¹―²–Η–Ϋ―΄ –≤–Β―Ä―΄¬Μ, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ϋ–Η –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι –Η–≥―Ä–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β-–Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Φ–Α, –Ϋ–Η –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―É–Μ―è―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –£ –Ϋ–Η―Ö –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―³–Η–Κ―¹–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―². –‰–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Ι ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Β –Η –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Β –Β–≥–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –ë–Ψ–≥–Ψ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Ψ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ–≥–Α –≤ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Β –‰–Η―¹―É―¹–Β –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹―²―É–Ω–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ ―¹–Μ―΄―à–Η―², ―ç―²–Ψ: ¬Ϊ–ö―Ä–Β―â―É ―²–Β–±―è –≤–Ψ –Η–Φ―è –û―²―Ü–Α –Η –Γ―΄–Ϋ–Α –Η –Γ–≤―è―²–Α–≥–Ψ –î―É―Ö–Α¬Μ. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –±–Β–Ζ–¥–Ϋ―É ―²―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –‰ ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Β―¹―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹ –Ϋ–Β–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –Δ–Α–Ι–Ϋ–Α –±―΄―²–Η―è –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―² –≤―¹―é –≤–Β―Ä―É –Η –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ. –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α βÄî ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α, ―΅―²–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ –Ζ–Ψ–≤ –û―²―Ü–Α ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Γ―΄–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –¥–Α―Ä–Ψ–≤ –î―É―Ö–Α (–ö–Α―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Μ –•. –î–Α–Ϋ–Η–Β–Μ―É ¬Ϊ–ë–Ψ–≥ –Η –Φ―΄¬Μ). –£ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Δ―Ä–Ψ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Ι ―¹ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Φ–Η―Ä–Β ―²―Ä–Ψ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Β―â–Β–Ι, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Ψ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Β―â–Β–Ι –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –¥–Α–Ε–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –≤–Β―â–Α―Ö ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Η―¹–Β–Μ, ―²–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ ―²―Ä–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ. –Δ―Ä–Ψ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤―É –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –‰―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α –Μ–Η―à―¨ –≤ ―²―Ä–Β―Ö –Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –Δ―Ä–Ψ–Η―΅–Ϋ―΄ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥―΄ –±―΄―²–Η―è. –Δ–Α–Κ, ―²―Ä–Ψ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―² ―è–Ζ―΄–Κ –Μ―é–¥–Β–Ι: –≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α―²–Η–Κ–Α ―É –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―²―Ä–Β―Ö –Μ–Η―Ü. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Ψ–Ε–Β ―²―Ä–Ψ–Η―΅–Ϋ–Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η: –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî ―ç―²–Ψ ―É–Φ, –≤–Ψ–Μ―è, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α. –î–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Φ, ―²–Ψ –Η –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―²―Ä–Ψ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –≤ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ―² ―²–Β–Ζ–Η―¹–Α –Κ –Α–Ϋ―²–Η―²–Β–Ζ–Η―¹―É –Η ―¹–Η–Ϋ―²–Β–Ζ―É. –‰ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Α ―²―Ä–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –Η –Ψ ―²–Α–Ι–Ϋ–Β –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Δ―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ–Η―è. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨. –ù–Ψ –±―É–¥–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ–± –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. –î―É―Ö–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Ι –ê―Ä–Β–Ψ–Ω–Α–≥–Η―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―΅–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–≥ –Β―¹―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―², –Η –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² (–Γ–Φ. –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–€–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β¬Μ, –≥–Μ. 5). –£―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ψ –ë–Ψ–≥–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –û–Ϋ –Β―¹―²―¨. –ù–Ψ –ë–Ψ–≥ –Γ–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ –Γ–Β–±–Β. –Γ–Α–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Γ–Β–±―è. –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Δ―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ–Η–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Δ―Ä–Β―Ö –¦–Η―Ü. –ù–Β –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ―Ä―è–¥ –Δ―Ä–Β―Ö, –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―É―²―¨ –û–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β. –≠―²–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –‰―Ö ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ, –Ω–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β, ―΅―²–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ–Η―² –‰―Ö, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è ¬Ϊ–Ϋ–Β―¹–Μ–Η―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η¬Μ. –ü―Ä–Η –Ϋ–Β―¹–Μ–Η―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –û–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –î―Ä―É–≥–Η–Φ –Ψ–Ϋ–Η ¬Ϊ–Β–¥–Η–Ϋ–Ψ―¹―É―â–Ϋ―΄¬Μ –Η ¬Ϊ–Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄¬Μ. –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α ―²–Α–Κ –Β–¥–Η–Ϋ―è―â–Β–≥–Ψ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –‰–Ω–Ψ―¹―²–Α―¹–Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¦―é–±–≤–Η. –û–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―â–Η–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥―è―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ―É―é ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―é―â―É―é –Β–≥–Ψ –Ψ―² –≤―¹–Β―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ι. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―É ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¦―é–±–≤–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –ë–Ψ–Ε–Η–Β –Η–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –ï–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤. –û–Ϋ–Α βÄî ―¹―É–±―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Α–Κ―² –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –û–Ϋ–Α βÄî ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –≤ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –±―΄―²–Η–Η. ¬Ϊ–ë–Ψ–≥ –Β―¹―²―¨ –¦―é–±–Ψ–≤―¨¬Μ (1 –‰–Ϋ. 4, 8). –û―²―¹―é–¥–Α –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ü–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¦–Η―Ü –Ω―Ä–Η –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ-―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –ö–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –¦–Η―Ü–Α –Η –ï–≥–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤. –£ –¦–Η―Ü–Α―Ö –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¦―é–±–Ψ–≤―¨ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β–±―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ. –£ –û―²―Ü–Β βÄî –Κ–Α–Κ –≤ –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Β–Ι –Ω―Ä–Α–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β ―΅–Η―¹―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄―²–Η―è. –£ –Γ―΄–Ϋ–Β βÄî –Κ–Α–Κ –≤ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Μ–Ψ–≤–Β, ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η (¬Ϊ–Μ–Ψ–≥–Ψ―¹¬Μ) –±―΄―²–Η―è, –Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è―â–Β–Φ –≤ –±―΄―²–Η–Β –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Η –≤–Ψ–Μ―é –û―²―Ü–Α. –£ –î―É―Ö–Β –Γ–≤―è―²–Ψ–Φ βÄî –Κ–Α–Κ –Ε–Η–≤–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―è―â–Β–Φ, –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ, –¥–≤–Η–Ε―É―â–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β. –ù–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Α –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Κ–Α–Κ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ―²–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―¹–Β–±―è –Μ―é–±–≤–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Α ―¹―²–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―¹–Β–±–Β. –û–Ϋ–Α βÄî –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–Β–±―è –Η –Η–Ζ ―¹–Β–±―è, –Κ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²―É, –≤–Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Β–Β ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²―É. –‰ –ë–Ψ–≥, –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β―¹―²―¨ –¦―é–±–Ψ–≤―¨, –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Κ–Α–Κ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Γ–Β–±–Β –Η –Η–Ζ –Γ–Β–±―è, –Κ –Ϋ–Β-–ë–Ψ–≥―É. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―²–Α–Ι–Ϋ―΄ –Φ–Η―Ä–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η―²―Ä–Ψ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –•–Η–Ζ–Ϋ–Η. –î–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Β–Φ–Μ–Β–Φ―΄ –Ζ–Α―¹―²―΄–≤―à–Η–Β –Ψ–Ϋ―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Η –¦–Η―Ü –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄, –Φ–Β―Ä―²–≤―è―â–Η–Β –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –•–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ö–Α–Κ? –ù–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Ψ –≤ –ë–Ψ–≥–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β? –ü―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹? –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨, –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è? –î–Α, –≤ –ë–Ψ–≥–Β –≤―¹–Β βÄî –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¦―é–±–≤–Η. –î–Α, –≤ –ë–Ψ–≥–Β –≤―¹–Β –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―΅–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–Φ―΄–Ι –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ϋ–Η ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Ψ–Φ –≤ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―â–Α–Β―²―¹―è –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è. –ê–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ζ–Φ, –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–Β ―ç―²―É –Φ―΄―¹–Μ―¨, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹―è–Κ―É―é –¥―Ä―É–≥―É―é –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ –ë–Ψ–≥–Β, –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –±–Β―¹―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –≤ ―¹–Β–±―è. –Γ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤―É―é―â–Β–Β –≤ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è―Ö. –ù–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –±–Ψ–≥–Ψ–¥―É―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β –Ψ–Ϋ–ΨβÄΠ –ü–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ι―²–Β, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Η –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ –ë–Ψ–≥–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–≤―è―²―΄―Ö –Ψ―²―Ü–Ψ–≤-–Φ–Η―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Η―¹―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α –Η –½–Α–Ω–Α–¥–Α, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –±–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ê–≤–≥―É―¹―²–Η–Ϋ–Α –Η –¥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Η―è –†–Α–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α –Γ–Α―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, βÄî ―¹–≤. –Γ–Η–Φ–Β–Ψ–Ϋ –ù–Ψ–≤―΄–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Η–¥–Η, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –ü―Ä–Β–±―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄–Φ –Η –Β–Ε–Β―΅–Α―¹–Ϋ–Ψ –≤–Β―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι –Κ –Ϋ–Α–Φ¬Μ. –£ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Η–Ζ –±–Β–Ζ–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –Α–Κ―² –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –£–Ψ–Μ–Η. –û–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²―¹―è –≤–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –≠―²–Ψ –Α–Κ―² –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¦―é–±–≤–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –¥―Ä―É–≥, –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι. –Δ–Α–Κ, –Η–Ζ –Ϋ–Β–±―΄―²–Η―è –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –ë―΄―²–Η–Β. –‰ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η, –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ–Η –Φ–Η―Ä―É –Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Η―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Δ–Α–Ι–Ϋ–Β, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –≤ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä–Η–Η –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¦―é–±–≤–Η. –û ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –ï―é –Φ–Η―Ä–Α –Η –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –¥―Ä―É–≥–Α, –Κ–Α–Κ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ. –‰ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–≥―É. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Β–≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Φ–Ψ ―¹–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι. –ë―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Η―Ä–Β, –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Η –Ζ–Α―΅–Β–Φ –≤–Ζ―è–≤―à–Β–Φ―¹―è ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α–Φ–Η –Η ―Ä–Β–≥―Ä–Β―¹―¹–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η. –ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―è ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä–Α –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²–Α–Κ¬Μ, –±–Β–Ζ –Ϋ―É–Ε–¥―΄ (–Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β ¬Ϊ–Ϋ―É–Ε–¥―΄¬Μ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –≤ –ë–Ψ–≥–Β? ), –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹―è–Κ–Α―è –¥―Ä―É–≥–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―è –Ψ –≤–Ϋ–Β–±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Η―Ä–Α, βÄî –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―è. –û–Ϋ–Α ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―ç―²–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ù–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –ë–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Β–Ζ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η –Μ―é–±―è―â–Β–≥–Ψ βÄî –±–Β–Ζ ―²–Β–±―è; ―΅―²–Ψ –≤–Β―¹―¨ ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ –Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―², ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ; –Η ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Φ, –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Β–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄî ―²―΄! βÄî –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι –Δ–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–Φ –Η –Μ―é–±―è―â–Η–Ι –ï–≥–Ψ, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ –Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι! –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨βÄΠ –¦―É―΅―à–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –ü―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ε–Β ―ç―²–Ψ βÄî –≤ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Φ. –û–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹–Ψ-–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –ë–Ψ–≥―É, –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –ê–¥–Α–Φ―É, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²: –Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–Φ―É –≤ ―¹–Β–±–Β –≤―¹–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨ –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Ψ-–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ë–Ψ–≥―É ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ε–Β, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –‰ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Ι, –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –≤ –ë–Ψ–≥–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β, –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Ψ-–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ë–Ψ–≥―É, –Φ–Β―Ä–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α. –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ε–Β –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹–Η–Μ―É–Β―²―¹―è –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ. –£ –Φ–Η―Ä –≤–Ψ―à–Μ–Ψ –Ζ–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ε–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¹―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Α ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –¥–Η–Α–Μ–Β–Κ―²–Η–Κ–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄. –ü–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―É–Φ–Α–Φ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Φ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ βÄî –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Ψ―² –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Β―é –Ζ–Μ–Α? –ö–Α–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ, –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É? –‰ –≤–Ψ―², –±―Ä–Α―²―¨―è –Η ―¹–Β―¹―²―Ä―΄, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –ë–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Β―¹―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –½–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –≤―¹–Β–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É. –ë–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Κ–Α–Κ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨ –Φ–Η―Ä –Ψ―² –Ζ–Μ–Α. –Θ–≤―΄, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ζ–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Α―à–Α –Ε–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤–Β―Ä–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Φ –Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Η―Ä–ΑβÄΠ –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –¥–Ψ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Φ–Η―Ä –Γ–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–≥–Α ―Ä–Α–¥–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä–Α –Ψ―² –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Β–≥–Ψ –Ζ–Μ–Α. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –‰–Ω–Ψ―¹―²–Α―¹–Η―é –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Α―è –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü–Α –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Α –Κ–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―é. –û–Ϋ–Α βÄî –Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è―â–Α―è –≤ –±―΄―²–Η–Β –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ –Η –≤–Ψ–Μ―é –Δ–≤–Ψ―Ä―Ü–Α. –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Η –ù–Β–Φ –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Η―Ä–Α (–ü―Ä–Η―²―΅. 8, 30), –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤―É―é―â–Α―è ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –ï―é –≤―¹–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ (–‰–Ϋ. 1, 3). –û–Ϋ–Α –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―é –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Α―é―â–Β–Ι –Φ–Η―Ä –≤ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Α―é―â–Β–Φ―¹―è –Γ―΄–Ϋ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Φ. ¬ΪβÄΠ –‰–±–Ψ ―²–Α–Κ –≤–Ψ–Ζ–Μ―é–±–Η–Μ –ë–Ψ–≥ –Φ–Η―Ä, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–¥–Α–Μ –Γ―΄–Ϋ–Α –Γ–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–ΨβÄΠ –¥–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β―²―¹―è –Φ–Η―Ä ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ù–Β–≥–Ψ¬Μ (–‰–Ϋ. 3, 16-17). –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―è –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–≥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –≤ –Φ–Η―Ä –ï–¥–Η–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―΄–Ϋ–Α –Γ–≤–Ψ–Β–≥–Ψ (1 –‰–Ϋ. 4, 9). –£ –≤–Ψ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –Γ―΄–Ϋ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Φ –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è ―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ―΄–Φ. –£–Β―΅–Ϋ–Ψ ―¹―É―â–Β–Β –±–Ψ–≥–Ψ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –±―΄―²–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Γ–Β–±―è –Γ―΄–Ϋ–Ψ–Φ –ë–Ψ–Ε–Η–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄî –Ϋ–Η―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è. –û–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Γ–Β–±―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Β–≥–Ψ. –Γ–Η–Μ–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è –≤―¹―è –≤–Ψ –‰–Η―¹―É―¹–Β –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, βÄî ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤―¹–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –Ζ–Μ–Ψ. –ù–Η ―΅–Β―¹―²―¨, –Ϋ–Η ―¹–Μ–Α–≤–Α –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α (–ï–≤―Ä. 2, 9) –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ―è―²―΄ –Ψ―² –ù–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Β ―É–Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –ù–Β–Φ –≤ –ï–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –‰ –Ψ–Ϋ–Η –Η ―è–≤–Μ―è―é―² ―¹–Β–±―è –≤ –ù–Β–Φ, ―É–Ε–Β –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹―à–Β–Φ –Η –ü―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ. –‰―²–Α–Κ, –Η–Φ–Β―è ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –Η –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²―Ä―É―è―²―¹―è ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Μ―É―΅–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²–Α, –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Β –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä–Α –Η –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –≤–Β–Κ–Α ―¹–Β–≥–Ψ, –Φ―΄ –≤–Β―Ä―É–Β–Φ –≤ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Γ―΄–Ϋ–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Α–¥–Η –Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è. –≠―²–Η ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Β―â–Β –Η ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ ―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è, βÄî –Ω–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Β―¹―²–Η―è –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Η―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ, ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –Λ–Β–Ψ―³–Α–Ϋ–Α –½–Α―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α, βÄî –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Η–Κ–Β–Φ –±―΄―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ¬Μ. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –Ε–Β ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¦―é–±–≤–Η, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι –≤ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –ë–Ψ–≥–Β, –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Β–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Κ –Β―é ―¹–Ω–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Φ–Η―Ä –Ψ―² –Ζ–Μ–Α? –ö–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―²–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² –Ζ–Μ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―É–¥–Β―² –≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α―¹ –Κ –¥–Ψ–±―Ä―É, –Α –Ϋ–Β –Κ–Ψ –Ζ–Μ―É? –€―΄ ―¹―²–Ψ–Η–Φ ―¹ –≤–Α–Φ–Η, –±―Ä–Α―²–Η–Β –Η ―¹–Β―¹―²―Ä―΄, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ö―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Δ―Ä–Η–Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–≥–Α. ¬Ϊ–ö―Ä–Β―¹―² ―²―Ä–Η―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―è –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄ –±–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―²―Ä–Η–Η–Ω–Ψ―¹―²–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ¬Μ, βÄî –Ω–Ψ–Β―² –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨. –ö–Α–Κ –Ε–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ―² –Ζ–Μ–Α ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι, ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Β–Β, –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Β–Β –≤ –Φ–Η―Ä –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –Κ―Ä–Β―¹―²–Α? –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –≤―΄–±―Ä–Α–≤ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Η―Ü―΄ –Η–Ζ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Ϋ–Η―Ü―΄ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –≠―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―¹–≤―è―²–Η–Φ –¥–≤–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –±–Β―¹–Β–¥―΄ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–ü–Α―¹―¹–Η–Ι¬Μ. –ù–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η–Ζ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ ―²–Α–Ι–Ϋ–Β –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ ―Ü–Β–Μ–Η –Β–≥–Ψ, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤―΄–≤–Ψ–¥. –£–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Φ―΄ ―²–Α–Κ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α–Β–Φ―¹―è –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤ –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α–¥ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –‰ –≤ ―΅–Β–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η–Φ ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤! –≠―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –Η –≤―¹–Β –Φ―΄ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ. –ù–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –±―΄―²―¨ –Ϋ–Η–Ε–Β –Η ―Ö―É–Ε–Β –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É–Β–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―é –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –Ε–Β –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ι–¥–Β―²? –ù–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―² –Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Β –Ψ―¹–Κ―É–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α, –Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β―² –Μ–Η ―ç―²–Ψ, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –Κ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Ι –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Α―Ü–Η–Η? –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η―² –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –¥–Α―Ä–Α–Φ–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η. –ö –Μ―É―΅–Α–Φ –Γ–Μ–Α–≤―΄, –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η―â―É―â–Η–Β –Β–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―à–Η –≤–Ζ–Ψ―Ä―΄. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤―¹―è –Ϋ–Α―à–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É, ―ç―²–Η–Φ –±–Μ–Α–≥–Η–Φ, ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―à–Α –Η –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –ë–Ψ–≥–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, –≤ ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Ι–Ϋ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι, –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Β―¹―²―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹, ―É–Ω–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Γ–Μ–Α–≤―΄ (–ö–Ψ–Μ. 1, 27). –ê–Φ–Η–Ϋ―¨. 12 –Φ–Α―Ä―²–Α 1972 –≥.
|
|
–ê―Ä―Ö–Η–≤
-
2013
(34)
-
2012
(204)
-
2011
(24)
–ö–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η
|





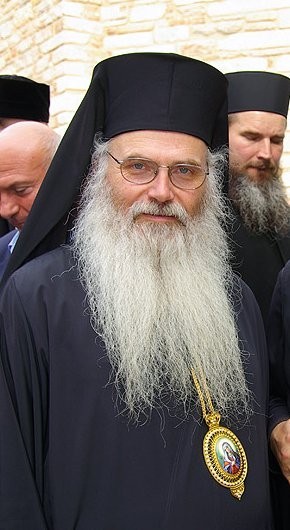


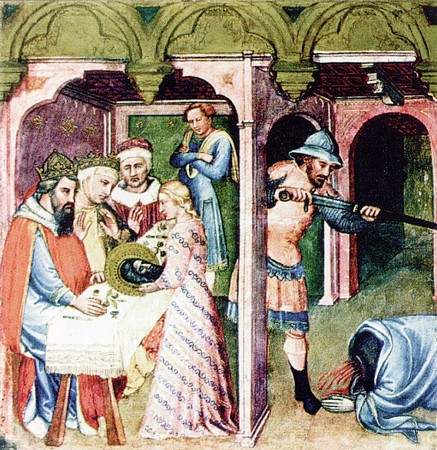
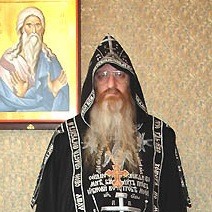




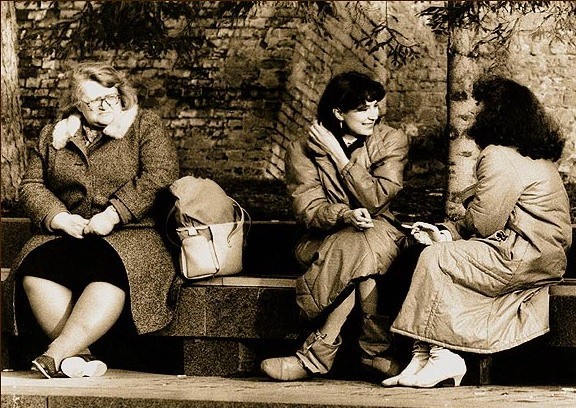
 "–ü―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ" –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é - ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ε–Η–≤―É―â–Η―Ö –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ "–±―Ä–Α–Κ–Β" –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α–¥―΄: –Η―Ö –¥–Β―²–Η "–Ϋ–Β ―à–Μ―è―é―²―¹―è, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Ψ" –£–≤–Η–¥―É –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―Ä–Α–Κ–Α –Η –±―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Α –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±―Ä–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Κ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Μ–Α–≥―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α.
"–ü―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α–Κ" –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é - ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ε–Η–≤―É―â–Η―Ö –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ "–±―Ä–Α–Κ–Β" –¥–Α–Ε–Β ―Ä–Α–¥―΄: –Η―Ö –¥–Β―²–Η "–Ϋ–Β ―à–Μ―è―é―²―¹―è, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Ψ" –£–≤–Η–¥―É –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―Ä–Α–Κ–Α –Η –±―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Α –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –±―Ä–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Κ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Μ–Α–≥―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α.
 –Γ―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Η―Ä―É–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ - ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤–Ϋ–Β –±―Ä–Α–Κ–Α. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―à–Β―¹―²–Β―Ä―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –î–Ε–Ψ–Μ–Η –Η –ü–Η―²―² –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄. –Δ–Β, –Κ―²–Ψ ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―² –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α –≤―¹–Β―Ü–Β–Μ–Ψ, –Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ¬Ϊ–Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Α¬Μ, βÄ™ –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α―é―² –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –¥–Β―²―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à–Β―² –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –ê―Ä―²–Β–Φ–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤, ¬Ϊ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―â–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è ―É–≤–Α–Ε–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–Φ ―²―É ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è¬Μ.
–Γ―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Η―Ä―É–Β–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ - ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤–Ϋ–Β –±―Ä–Α–Κ–Α. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―à–Β―¹―²–Β―Ä―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –î–Ε–Ψ–Μ–Η –Η –ü–Η―²―² –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄. –Δ–Β, –Κ―²–Ψ ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―² –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α –≤―¹–Β―Ü–Β–Μ–Ψ, –Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ¬Ϊ–Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Α¬Μ, βÄ™ –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α―é―² –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –¥–Β―²―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –±―Ä–Α–Κ–Β, –Κ–Α–Κ –Ω–Η―à–Β―² –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –ê―Ä―²–Β–Φ–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤, ¬Ϊ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―â–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è ―É–≤–Α–Ε–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–Φ ―²―É ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è¬Μ. 6 –Φ–Α―è 2012 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄ –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨ –™―Ä―É–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω–Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ 400 –¥–Β―²–Β–Ι. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±–Β–Ζ –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –Β–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è―Ö. –€–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ι –Γ―É―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–≤ –Φ–Η―Ä–Β, –≥–¥–Β –≤―¹–Β –Η–¥–Β―² –≤―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ–¥, –±―Ä–Α–Κ βÄ™ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –¥–≤–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β―²―¹―è, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η¬Μ. –ö–Α–Κ ―¹–Ψ―é–Ζ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –±―Ä–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–±–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α –±―Ä–Α–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Β―Ä–Β–Ε–Β―², ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―² –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ―é–Ζ –¥–≤–Ψ–Η―Ö.
6 –Φ–Α―è 2012 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―΄ –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨ –™―Ä―É–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω–Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ 400 –¥–Β―²–Β–Ι. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±–Β–Ζ –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ –Β–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è―Ö. –€–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ι –Γ―É―Ä–Ψ–Ε―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–≤ –Φ–Η―Ä–Β, –≥–¥–Β –≤―¹–Β –Η–¥–Β―² –≤―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ–¥, –±―Ä–Α–Κ βÄ™ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –¥–≤–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Η, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β―²―¹―è, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η¬Μ. –ö–Α–Κ ―¹–Ψ―é–Ζ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –±―Ä–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨. –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–±–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α –±―Ä–Α–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Β―Ä–Β–Ε–Β―², ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―² –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ―é–Ζ –¥–≤–Ψ–Η―Ö. 
 –Δ–Ψ―², –ö―²–Ψ –¥–Ψ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ, ―². –Β. –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä–Α, ―É–Ε–Β –±―΄–Μ βÄî ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –Δ–Ψ―², –ö―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –±–Ψ–≥–Ψ-―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –±―΄―²–Η–Β –Η –Ψ–±–Η―²–Α–Μ –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β, –Ϋ–Η–Κ–Β–Φ –Η–Ζ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ (1 –Δ–Η–Φ. 6, 16), βÄî ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ; –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ βÄî –≤ ―¹―²–Ψ–Ι–Μ–Β –¥–Μ―è ―¹–Κ–Ψ―²–Α (–¦–Κ. 2, 7). –‰–Ζ –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Α –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ (–‰–Ϋ. 17, 5; 2–ü–Β―². 1, 17; 2 –ö–Ψ―Ä. 3, 7; 1 –Γ–Ψ–Μ. 2, 12; –ï–≤―Ä. 1, 3) –Γ―΄–Ϋ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι, –Ω–Ψ ―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤―É ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤–Ψ–Ι, –≤―¹–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à –Φ–Η―Ä. –‰ –Ε–Η–≤–Β―² –≤ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Η –Ψ―² ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ ―Ä–Α–±–Α. –Δ–Β―Ä–Ω–Η―² –±–Η―΅–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―â–Β―΅–Η–Ϋ―΄, –Ω–Μ–Β–≤–Κ–Η –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ¬Ϊ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Β –Η –Ψ–Φ–Β―Ä–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Η―¹―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Π–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Ϋ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―É―é –Φ―É–Κ―É –Η ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ë–Ψ–≥–Α, –Ψ–±–Ϋ–Η―â–Α–Ϋ–Η–Β –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Γ–Μ–Α–≤―΄ (–Λ–Μ–Ω. 2, 7; 2 –ö–Ψ―Ä. 8, 9; 1–ö–Ψ―Ä. 2, 8). –û–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Η –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –û–Ϋ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è –≤ –¥―É―à–Β ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Η ―¹ ―É–Ε–Α―¹–Α―é―â–Β–Ι ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Γ–Α–Φ–Η–Φ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Ι (–€–Κ. 15, 34; –€―³. 26, 39). –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Δ–Ψ―², –¥–Μ―è –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β –Η –Ψ―² –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β, –±―΄–Μ –±―΄ –£–Ψ–Ε–¥–Β–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α, –≤ –Η―¹―²–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Η –ï–≥–Ψ (–ï–≤―Ä. 2, 10). –Δ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ (–€―³. 26, 54).
–Δ–Ψ―², –ö―²–Ψ –¥–Ψ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ, ―². –Β. –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η―Ä–Α, ―É–Ε–Β –±―΄–Μ βÄî ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –Δ–Ψ―², –ö―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –±–Ψ–≥–Ψ-―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –±―΄―²–Η–Β –Η –Ψ–±–Η―²–Α–Μ –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β, –Ϋ–Η–Κ–Β–Φ –Η–Ζ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ (1 –Δ–Η–Φ. 6, 16), βÄî ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ; –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ βÄî –≤ ―¹―²–Ψ–Ι–Μ–Β –¥–Μ―è ―¹–Κ–Ψ―²–Α (–¦–Κ. 2, 7). –‰–Ζ –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Α –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ (–‰–Ϋ. 17, 5; 2–ü–Β―². 1, 17; 2 –ö–Ψ―Ä. 3, 7; 1 –Γ–Ψ–Μ. 2, 12; –ï–≤―Ä. 1, 3) –Γ―΄–Ϋ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι, –Ω–Ψ ―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤―É ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤–Ψ–Ι, –≤―¹–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à –Φ–Η―Ä. –‰ –Ε–Η–≤–Β―² –≤ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Η –Ψ―² ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―â–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ ―Ä–Α–±–Α. –Δ–Β―Ä–Ω–Η―² –±–Η―΅–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―â–Β―΅–Η–Ϋ―΄, –Ω–Μ–Β–≤–Κ–Η –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ¬Ϊ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Β –Η –Ψ–Φ–Β―Ä–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Η―¹―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Π–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Ϋ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―É―é –Φ―É–Κ―É –Η ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ë–Ψ–≥–Α, –Ψ–±–Ϋ–Η―â–Α–Ϋ–Η–Β –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Γ–Μ–Α–≤―΄ (–Λ–Μ–Ω. 2, 7; 2 –ö–Ψ―Ä. 8, 9; 1–ö–Ψ―Ä. 2, 8). –û–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Η –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –û–Ϋ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è –≤ –¥―É―à–Β ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Η ―¹ ―É–Ε–Α―¹–Α―é―â–Β–Ι ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Γ–Α–Φ–Η–Φ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Ι (–€–Κ. 15, 34; –€―³. 26, 39). –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Δ–Ψ―², –¥–Μ―è –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β –Η –Ψ―² –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β, –±―΄–Μ –±―΄ –£–Ψ–Ε–¥–Β–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Φ ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α, –≤ –Η―¹―²–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Η –ï–≥–Ψ (–ï–≤―Ä. 2, 10). –Δ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ (–€―³. 26, 54).