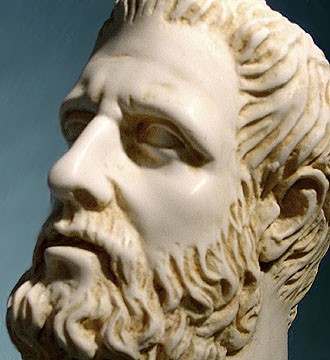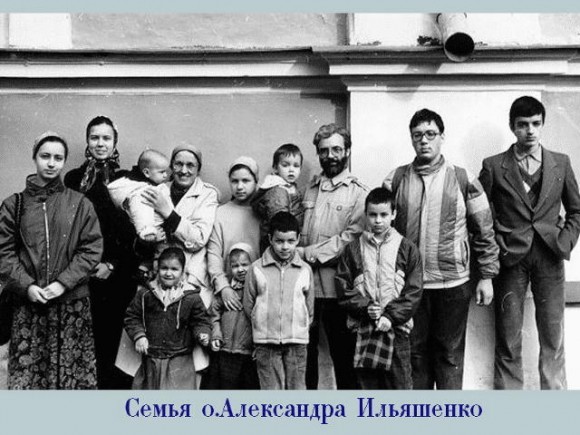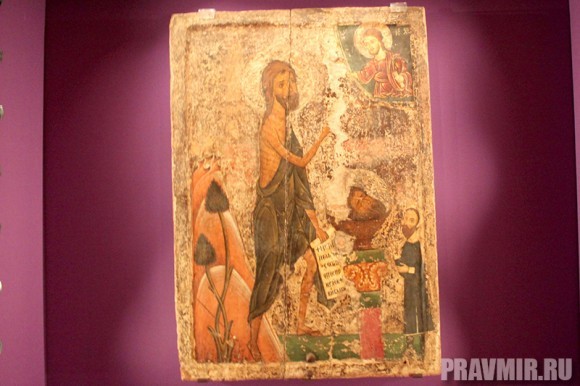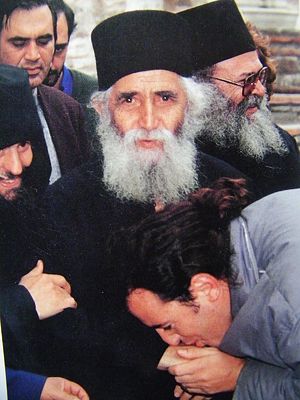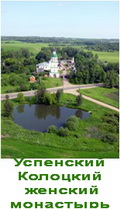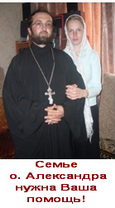–ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ―è―è –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β―à–Α―é―â–Η–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –¥–Μ―è ―¹―É–¥―¨–±―΄ ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –™―Ä–Β―Ü–Η–Η –Η –†–Η–Φ–Α. –½–Α―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―¹–Β–Κ―²–Α –≤ –Η―É–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –†–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β I –≤–Β–Κ–Α, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä–≥–Η–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Η –≤―΄–Φ–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–ΒβÄΠ –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ, –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β, ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Α –ü–Α–≤–Μ–Α, –Κ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―²―¹―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―ç–Μ–Μ–Η–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤―Ä–Α―΅ –¦―É–Κ–Α βÄ™ –¥―Ä―É–≥, ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ –Η ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –ü–Α–≤–Μ–Α, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ, –Α–≤―²–Ψ―Ä –¥–≤―É―Ö ―²–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Κ–Α–Κ βÄ€–ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β –Ψ―² –¦―É–Κ–ΗβÄù –Η βÄ€–î–Β―è–Ϋ–Η―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤βÄù. –‰–Φ―è –¦―É–Κ–Η ―¹―²–Ψ–Η―², –≤–Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β –Ω–Μ–Β―è–¥―΄ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι-―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―²–Β, ―΅―¨–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –≤―¹–Β–Φ, –≤ ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É―é―â–Η–Φ―¹―è ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι βÄ™ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―ç―²–Η―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –Η ―Ü–Β–Μ–Η―²–Β–Μ―¨ –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Η–Φ–Ψ–Ϋ –Η –±–Β―¹―¹―Ä–Β–±―Ä–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –ö–Ψ―¹–Φ–Α –Η –î–Α–Φ–Η–Α–Ϋ - ―²–Α–Κ –Η ―²–Β, ―΅―¨–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–±―΄―²―΄, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―é―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η―Ö –Φ–Α―Ä―²–Η―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ (―¹–Ω–Η―¹–Κ–Α―Ö –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹–≤―è―²―΄―Ö) βÄ™ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä―è―Ö.  –€―΅. –‰―É―¹―²–Η–Ϋ. –Λ―Ä–Β―¹–Κ–Α. –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –ü–Α–Ϋ―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α. –î–Β―΅–Α–Ϋ–Η. –ö–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ. –Γ–Β―Ä–±–Η―è. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 1350 –≥–Ψ–¥–Α. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι βÄ™ –Ζ–Α–±―΄―²―΄–Φ ―Ä―è–¥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄―²―΄–Φ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é βÄ™ –Η ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Φ―è –ü–Β–Ψ–Ϋ–Α-–≤―Ä–Α―΅–Α, ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α ―¹–≤. –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –‰―É―¹―²–Η–Ϋ–Α –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Α, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―²–Α–Ι–Ϋ―É –Φ–Α―Ä―²–Η―Ä–Η–Η, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β –†–Α―¹–Ω―è―²–Ψ–Φ –Η –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹―à–Β–Φ. –ü―Ä–Η―²–Ψ–Κ –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –Η–Ζ –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –≤–Ψ II –≤–Β–Κ–Β –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹―²–Α–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ¬Ϊ–≤–Β–Κ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–≤¬Μ –≥–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –¥–Ψ―¹–Β–Μ–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–¥―΄―à–Κ―É –Η, –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Β―é, –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –†–Η–Φ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Β―²–Ψ–≤ βÄ™ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –†–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹―²–Α–Μ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³ –‰―É―¹―²–Η–Ϋ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä―É–Ε–Ψ–Κ¬Μ βÄ™ –Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É βÄ™ –≤ –†–Η–Φ–Β, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α –ü–Η―è (–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ 138-161 –≥–≥ –Ϋ.―ç.). –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―É, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ―É –€–Α―Ä–Κ―É –ê–≤―Ä–Β–Μ–Η―é –Η –Α–¥―Ä–Β―¹―É–Β―² –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³-―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η ¬Ϊ–ê–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η¬Μ. –î–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ε–Η–≤–Β―² –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–≤. –‰―É―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β βÄ€―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β –¥–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–ΑβÄù. –£ –Ω―Ä–Η―²–≤–Ψ―Ä–Α―Ö –≤–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –±―É–¥―É―² –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Φ―É–¥―Ä–Β―Ü―΄, βÄî ―²–Β βÄ€–¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ –Ϋ–Α―à–Η–ΦβÄù, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ –Ϋ–Η―Ö –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö βÄî –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ, –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ―²–Β–Μ―¨, –≠–Ω–Η–Κ―²–Β―², –Ϋ–Ψ –Η –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―², –≤―Ä–Α―΅ –Η–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Α –Α―¹–Κ–Μ–Β–Ω–Η–Α–¥–Ψ–≤ ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö–Ψ―¹ –≤ –™―Ä–Β―Ü–Η–Η. –Γ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α (V –≤–Β–Κ –¥–Ψ –Ϋ.―ç.) ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è –Κ–Ψ―¹―¹–Κ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α. –≠―²–Α –≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Α ―³―É–Ϋ–¥–Α–Φ–Β–Ϋ―² –¥–Μ―è –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―΄. –î–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―΄ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤ βÄ€–™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–ΒβÄù, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ??? –≤. –¥–Ψ –Ϋ.―ç. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –Η–Φ–Β―é―² –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β: βÄ€–ù–Β―² –Ϋ―É–Ε–¥―΄ –¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ (―ç–Ω–Η–Μ–Β–Ω―¹–Η―è) –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –≤―¹–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β. –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―É –Ε–Β –Η ―¹–Η–Μ―É –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β, –Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥–Α–Β―² –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η–Ζ–Μ–Β―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤―¹–Β–Φ ―²–Β–Φ, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―², –Η–±–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Η―â–Α, –Α –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ω–Ψ–≥–Η–±–Β–Μ―¨βÄù. (–û ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, 18) –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―²–Η–Κ–Β. –ö–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, ―²―Ä–Β–±―É–Β–Φ―΄–Β –Ψ―² –≤―Ä–Α―΅–Α, –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η, ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α: βÄ€–î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Β–Φ―É (–≤―Ä–Α―΅―É) βÄΠ –±―΄―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –≤ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –‰ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β―² –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ–Α–≤―΄. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ―Ä–Α–≤―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ, –Η, –Κ–Α–Κ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―΄–ΦβÄΠ. –û–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –Η–±–Ψ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –Α ―É –≤―Ä–Α―΅–Α ―¹ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η βÄî –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι: –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Α―é―² ―¹–Β–±―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ, –Η –≤―Ä–Α―΅–Η –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Φ–Β―é―² –¥–Β–Μ–Ψ ―¹ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹ –¥–Β–≤–Η―Ü–Α–Φ–Η –Η ―¹ –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―΄, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α―΅ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –‰―²–Α–Κ, –≤–Ψ―² ―ç―²–Η–Φ–Η-―²–Ψ –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²―è–Φ–Η –¥―É―à–Η –Η ―²–Β–Μ–Α –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨―¹―èβÄù (–û –≤―Ä–Α―΅–Β). 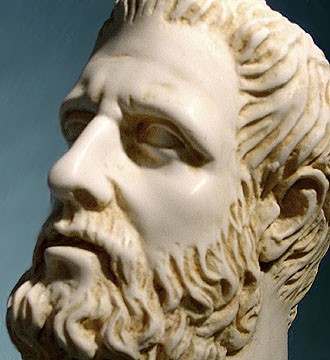 –£ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö–Μ―è―²–≤–Β¬Μ, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²―É, –Ϋ–Ψ ―è–≤–Μ―è―é―â–Β–Ι―¹―è –Κ–≤–Η–Ϋ―²―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Α –Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ω–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ –Κ–Α–Κ ―ç–≤―²–Α–Ϋ–Α–Ζ–Η―è, –Α–±–Ψ―Ä―²―΄, –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –Η –¥―Ä.: –£ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö–Μ―è―²–≤–Β¬Μ, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²―É, –Ϋ–Ψ ―è–≤–Μ―è―é―â–Β–Ι―¹―è –Κ–≤–Η–Ϋ―²―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Α –Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ω–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ –Κ–Α–Κ ―ç–≤―²–Α–Ϋ–Α–Ζ–Η―è, –Α–±–Ψ―Ä―²―΄, –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –Η –¥―Ä.:
βÄ€–· –Ϋ–Β –¥–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É –Ω―É―²–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Α; ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ϋ–Β –≤―Ä―É―΅―É –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –Α–±–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―¹―¹–Α―Ä–Η―è. –ß–Η―¹―²–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –±―É–¥―É ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―¹–≤–Ψ–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–ΨβÄΠ–£ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄ –¥–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Η –≤–Ψ―à–Β–Μ, ―è –≤–Ψ–Ι–¥―É ―²―É–¥–Α –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –±―É–¥―É―΅–Η –¥–Α–Μ–Β–Κ –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―² –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ ―¹ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―Ä–Α–±–Α–Φ–Η. –ß―²–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Η –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η βÄî –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –±–Β–Ζ –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è βÄî ―è –Ϋ–Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Η–Μ–Η –Ϋ–Η ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Κ–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Μ–Η–±–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨, ―è ―É–Φ–Ψ–Μ―΅―É –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―¹―΅–Η―²–Α―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–ΙβÄù. –ü―Ä–Η–Ζ―΄–≤ –Κ –±–Β―¹–Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Α―΅–Β–≤–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Α–Κ –Η–¥–Β–Α–Μ―É ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –±–Μ–Η–Ζ–Ψ–Κ –Κ –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η. –£ –≥–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ–Β ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Β―¹–Μ–Η ―Ä–Β―΅―¨ ―à–Μ–Α –Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ü–Η–Β–Ϋ―²–Α―Ö: βÄ€–ï―¹–Μ–Η ―²―΄ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β―à―¨ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η, βÄî –≤–Β–¥―¨ –Η ―ç―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –¥–Β–Μ―É, βÄî ―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β–¥–Β―à―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨, ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α, ―²―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―à―¨ –Β–≥–Ψ –Η–Μ–Η –±―É–¥–Β―à―¨ –Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Η –Ϋ–Β –¥–Α―à―¨ –Β–Φ―É –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α. –û–± ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Η: –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―²–Α –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β –¥–Α―é―â–Α―è ―¹–Μ―É―΅–Α―è –Κ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Α –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –≤―΄–≥–Ψ–¥―΄, –Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ–Α–≤―΄. –¦―É―΅―à–Β ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Α―²―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –≤ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–ΗβÄΠ –‰ ―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―É―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²―΄ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ ―¹–Β–±―è, –Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ–±–Η–Μ–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ (―É –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ) –Η –Ϋ–Α –Η―Ö ―É–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Β―΅–Η–Μ –±―΄ –Η –¥–Α―Ä–Ψ–Φ, ―¹―΅–Η―²–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―É―é –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≤―΄―à–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤―΄. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¹―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―΅―É–Ε–Β―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü―É –Η–Μ–Η –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ―É, ―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Β–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Η–±–Ψ, –≥–¥–Β –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –Μ―é–¥―è–Φ (―³–Η–Μ–Α–Ϋ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―è), ―²–Α–Φ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤―É (―³–Η–Μ–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―è). –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–¥–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è; –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è –Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Μ–Η; –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è –Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Η ―Ä–Α–¥–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è!βÄù (–ù–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è,(4)). –Π–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤ –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Κ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ, ―²–Α–Κ –Η –Κ –Ψ–±―â–Β―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ. –¦–Β–Κ―¹–Η–Κ–Ψ–≥―Ä–Α―³ –≠―Ä–Ψ―Ü–Η–Α–Ϋ, –Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Η –ù–Β―Ä–Ψ–Ϋ–Β (I –≤–Β–Κ), ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α –≤―¹–Β–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι, –Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―É–¥―É―â–Η–Φ –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ, ―¹―²–Α–≤―è –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ –™–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ, –î–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Η―²–Ψ–Φ, –™–Β―Ä–Ψ–¥–Ψ―²–Ψ–Φ, –Λ―É–Κ–Η–¥–Η–¥–Ψ–Φ.  –î–Ε–Ψ–Ϋ –Θ–Η–Μ―¨―è–Φ –Θ–Ψ―²–Β―Ä―Ö–Α―É–Ζ. –ë–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ –≠―¹–Κ―É–Μ–Α–Ω–Α –€–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―É –≤ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–¥–Η ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Μ―è –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Φ, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –≤–Β–¥―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Α–Κ βÄ€–≥–Μ–Α―¹ –±–Ψ–≥–ΑβÄù. –≠―²–Η ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É–¥–Η–≤–Μ―è―é―â–Η–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Κ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£ –î―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι –™―Ä–Β―Ü–Η–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―Ü–Β–Μ–Α―è ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è –±–Β–Ζ–Φ–Β–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤―Ä–Α―΅–Η –î–Η–Ψ–¥–Ψ―Ä ―¹ –Γ–Α–Φ–Ψ―¹–Α, –Λ–Η–¥–Η–Ι –Η–Ζ –ê―³–Η–Ϋ, –ù–Η–Κ–Α–Ϋ–¥―Ä ―¹ –î–Β–Μ–Ψ―¹–Α, –ü–Ψ–Μ–Η–≥–Ϋ–Ψ―² ―¹ –ö–Β–Ψ―¹–Α, –€–Β–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Η―² ―¹ –ö–Α―Ä–Ω–Α―³–Α, –î–Α–Φ–Η–Α–¥ –Η–Ζ –™–Η―³–Η―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –±–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ω–Μ–Α―²―΄ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―É―¹–Μ―É–≥–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―ç–Ω–Η–¥–Β–Φ–Η–Ι. –ë―΄–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤, ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –≤ III –≤–Β–Κ–Β –Ϋ.―ç., –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Η–Β –Η ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≥―Ä–Β–Κ–Ψ-―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α –Ϋ–Β ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤–Ϋ―É―à–Α–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É –Μ―é–¥―è–Φ. –î–Α–Ε–Β ―¹―²–Ψ–Η―Ü–Η–Ζ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α–Μ –Μ–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η βÄ™ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η. –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Η–Κ –ü–Μ–Ψ―²–Η–Ϋ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―É (–Κ–Α–Κ –Η –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–¥–Β–Μ–Η–Β) –Κ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―é―â–Η–Φ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β (–≠–Ϋ–Ϋ–Β–Α–¥–Α,V,9,11), –Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β, –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤―à–Β–Ι ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β? –Γ–Β―Ä–¥―Ü–Β –Η –Ψ–Ω―΄―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η βÄ™ –¥–Α, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ―É ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―ç―²–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β. –£ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Β―â–Β –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ βÄ€–ö―Ä–Α―²–Η–Μ–ΒβÄù: βÄ€soma-semaβÄù (―²–Β–Μ–Ψ βÄ™ ―²–Β–Φ–Ϋ–Η―Ü–Α). –™–Ϋ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Ι –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η βÄ™ –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ε–Β–Μ–Α–Μ –±―΄―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≤―Ä–Α―΅–Ψ–Φ-―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–Φ¬Μ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―É –Η ―²–Β–Φ–Ϋ–Η―Ü―É –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Β–≤–Α―²―¨. –Θ ―¹―²–Ψ–Η–Κ–Ψ–≤ –Μ―é–¥–Η, –Ε–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Β –Η–Ζ–Μ–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η: βÄ€–ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–≤―É―Ö –≤–Β–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―ç―Ä―΄ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―é―² ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α, –Β–Β –±–Β–Ζ–≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β–Β –Ϋ–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―É–¥―¨–±–ΒβÄù, –Ω–Η―à–Β―² –ê.–Λ. –¦–Ψ―¹–Β–≤. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è βÄ€epistemeβÄù, ―É–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β –Κ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤―É –≥–Ψ―Ä―à–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Α βÄ™ βÄ€tehne iatrikeβÄù, ―Ü–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ. –û–Ω―É―¹―²–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―è–Ζ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–Φ –≤ βÄ€–û–±–Μ–Α–Κ–Α―ÖβÄù –≤ βÄ€―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö, –Η –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι, –Η –≥–Α–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, ―³―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –Κ―É–¥―Ä―è―Ö, ―¹ –Ω–Β―Ä―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α―Ö, –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Η―¹―²―΄―Ö –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Κ―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Α―Ö, –Ψ–Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―΄―¹–Β–Ι –Ϋ–Α–¥–Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄―ÖβÄΠ–±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―΄―ÖβÄù –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β. –Ξ–Ψ―²―è –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Α –≤ –†–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η ―Ä–Α–±–Α–Φ-–≥―Ä–Β–Κ–Α–Φ (servus medicus), –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ψ―²–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Μ―é–¥―è–Φ, –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –Η–Ζ–Μ–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α–¥–Η –≥–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä–Α―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –≤―Ä–Α―΅–Α. –£―Ä–Α―΅–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ –Η―Ö –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―É―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Φ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Κ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ. –ù–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α βÄ€–≤―Ä–Α―΅βÄù ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Β–Ι, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³ –‰―É―¹―²–Η–Ϋ –Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Η–Ζ –¥―É―à–Η –Η ―²–Β–Μ–Α? –†–Α–Ζ–≤–Β –¥―É―à–Α ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –Β―¹―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ? –ù–Β―², –Ψ–Ϋ–Α –¥―É―à–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ê ―²–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ? –ù–Β―², –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Β–Μ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Η–Ζ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι ―²–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Α –ë–Ψ–≥ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ –Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é: ―²–Ψ –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β, ―².–Β. –¥―É―à―É –Η ―²–Β–Μ–Ψ¬Μ. –ù–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι-―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―¹–≤―è―²―΄―Ö ―¹ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Λ–Η–≥―É―Ä–Α –ü–Β–Ψ–Ϋ–Α-–≤―Ä–Α―΅–Α –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Α –‰―É―¹―²–Η–Ϋ–Α. –î–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ―²–≤–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Η–Β –Η―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Β–≥–Ψ ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è: ¬Ϊ–ü–Η―â–Α ―ç―²–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –ï–≤―Ö–Α―Ä–Η―¹―²–Η–Β―é (–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β¬≠–Ϋ–Η–Β–Φ), –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―²―¹―è ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –≤–Β―Ä―É–Β―² –≤ –Η―¹―²–Η–Ϋ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Η –Ψ–Φ―΄–Μ―¹―è –Ψ–Φ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤ –Η –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β¬≠–Ϋ–Η–Β, –Η –Ε–Η–≤–Β―² ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹. –‰–±–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η¬≠–Φ–Α–Β–Φ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Μ–Β–± –Η–Μ–Η –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―²―¨–Β, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹, –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―à, –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –ë–Ψ–Ε–Η–Η–Φ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Η –Η–Φ–Β–Μ –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω–Η―â–Α ―ç―²–Α, –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―É ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –ï–≥–Ψ –Η –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Β¬≠―Ä–Β–Ζ ―É–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Α –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –Η –Ω–Μ–Ψ―²―¨, –Β―¹―²―¨ βÄî –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ϋ–Α―É―΅–Β–Ϋ―΄ βÄî –ü–Μ–Ψ―²―¨ –Η –ö―Ä–Ψ–≤―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η–≤¬≠―à–Β–≥–Ψ―¹―è –‰–Η―¹―É―¹–Α. ( ―¹–≤. –‰―É―¹―²–Η–Ϋ –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³, ¬Ϊ–ü–Β―Ä–≤–Α―è –Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è¬Μ) –î–Α, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η–Ι –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ , –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β―¹―²―¨ –¦–Ψ–≥–Ψ―¹, –Η ¬Ϊ–¦–Ψ–≥–Ψ―¹ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, –Η –Β―¹―²―¨, –Η –±―É–¥–Β―² –ë–Ψ–≥¬Μ (–î–Η–Α–Μ. 58) ―¹–Ω–Α―¹–Α–Β―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―¹–Ω–Α―¹–Α–Β―² –Γ–≤–Ψ–Β―é –ü–Μ–Ψ―²―¨―é –Η –ö―Ä–Ψ–≤―¨―é βÄ™ –Ϋ–Α―à―É –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨. –‰ –≤–Ψ–Ζ–≤–Β―â–Α―è –ï–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨, –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É―è –ï–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Η, –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Η–≤―΄, –Η –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ βÄ™ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹. –£―Ä–Α―΅ –ü–Β–Ψ–Ϋ, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―â–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–≤―Ä–Α―΅¬Μ –Ω–Ψ-–≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η. –ù–Η –Φ–Β―¹―²–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ, –Ϋ–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Η ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, ―¹―²–Α–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–Φ –‰―É―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –Η ―¹–Ψ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –‰―É―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –Ξ–Α―Ä–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –≠–≤–Β–Μ–Ω–Η―¹―²–Ψ–Φ, –‰–Β―Ä–Α–Κ―¹–Ψ–Φ –Η –¦–Η–±–Β―Ä–Η–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –û–Ϋ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ –≤ ―¹–Β–±–Β –Κ–Α–Κ ―²–Α–Ι–Ϋ―É –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –†–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―²–Α–Κ –Η –±–Β―¹–Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–≤, –Η―â―É―â–Η―Ö –Η―¹―²–Η–Ϋ―É. –ù–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ¬Ϊ–ü–Β–Ψ–Ϋ¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ–ü–Β–Α–Ϋ¬Μ ―É –™–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―Ä–Α―΅–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –±–Ψ–≥–Ψ–≤βÄΠ –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî –Β―â–Β –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―² –Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ βÄ€–≤―Ä–Α―΅-―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Β–Ϋ –±–Ψ–≥―ÉβÄù. –ê –≤–Ψ–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ: ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β! –Φ―΄ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥–Β―²–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Η; –Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β–Φ. –½–Ϋ–Α–Β–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–Β―²―¹―è, –±―É–¥–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄ –ï–Φ―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Η–Φ –ï–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –û–Ϋ –Β―¹―²―¨¬Μ (1 –‰–Ϋ. 3:2).
|
–€–Α―²―É―à–Κ–Α –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –‰–Μ―¨―è―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Α –Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –≥–¥–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι, –Α –Ψ―²–Β―Ü ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –ë–Ψ–≥―É. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α, –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ê–Φ–±–Α―Ä―Ü―É–Φ–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ―΅―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –ê–Φ–±–Α―Ä―Ü―É–Φ–Ψ–≤–Α. –†–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é, –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―Ä–Α―΅–Α-–Ω–Β–¥–Η–Α―²―Ä–Α. –Θ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Η –Φ–Α―²―É―à–Κ–Η –€–Α―Ä–Η–Η –‰–Μ―¨―è―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ 12 –¥–Β―²–Β–Ι –Η 18 –≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è, –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Α―è, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è. –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é, –Ϋ–Ψ ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α–Φ (–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ!) ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –£―¹–Β–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ω–Α―¹–Α, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –€–Α―Ä–Η–Η –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ―΄ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –ü―Ä–Α–≤–Φ–Η―Ä–Α –Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β―²–Β–Ι. - –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α, –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤―΄, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Η –±―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β. –€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –Ψ―²–Β―Ü –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β―²–Β–Ι, –≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è –¥–Ψ–Φ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―΅–Β–Φ –Φ–Α―²―¨, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –±―΄―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö? - –· –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É ―è ―É―¹―²–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―é –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –¥–Β―²―è–Φ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ. –î–Β―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–≥―Ä―É–±–Η―²―¨, –Α ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅―É, –Φ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―É–Ε–Β –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Κ―Ä–Η―΅–Η–Φ, ―¹–Α–Φ–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―è. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β βÄ™ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤―΄ –Κ―Ä–Η―΅–Η―²–Β βÄ™ –Α ―è –Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―é ―É–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Κ―Ä–Η―΅–Η–Φ. –· –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Β–Φ―É –≤―¹–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―¹–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β –≤–Ζ–≤–Β―¹–Η―², –Ϋ–Α―É―΅–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ―É –Η ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. - –ö–Α–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²? - –û―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –ë―΄–≤–Α–Β―² ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨, –Β–Φ―É ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―è, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥–Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β¬Μ. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Μ―¹―è, –Β–Φ―É –±―É–¥–Β―² –Μ–Β–≥―΅–Β –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄ –Η ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –±―΄ –Β–¥―É, –Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ –¥–Β―²–Β–Ι, –Η ―²–¥.  –ü―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Η –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α –€–Α―Ä–Η―è –‰–Μ―¨―è―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –Λ–Ψ―²–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –ü–Α–Ω–Α, –Φ―É–Ε –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –£―¹–Β–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―², –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ, –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–Α, –≤―¹―²–Α―²―¨ βÄî –Ω–Α–Ω–Α –≤–Ψ―à–Β–Μ! –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Η –¥–Β―²–Η ―²–Α–Κ –¥–Β–Μ–Α―é―². –£―¹–Β–≥–¥–Α –Β–Φ―É –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Κ―É―¹–Ψ–Κ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –ë―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–¥―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨, –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Β―²–Η –Ϋ–Β ―¹―ä–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α –Ϋ–Α–Β–Μ―¹―è. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Α–Φ–Α –Η –Ε–Β–Ϋ–Α ―¹―²–Α–≤–Η―² –Φ―É–Ε–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, ―²–Ψ –Η –¥–Β―²–Η ―²–Α–Κ ―É―΅–Α―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Β–Φ―¨―é –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―ç―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ζ–Α –Ω–Α–Ω–Ψ–Ι, –Ω–Α–Ω–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Μ―é–±―è―², ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –±―É–¥―É―² ―Ä–Α–¥―΄, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–¥―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―² –Ϋ–Β ―É–Ω―Ä–Β–Κ, –Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β –¥–Β―²–Β–Ι, –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä –±―΄–Μ βÄî –Ω–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α. –· ―²–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ–Α, –Η –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι.  –‰–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –¥–Μ―è "–ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è –Η –Φ–Η―Ä–Α". –Λ–Ψ―²–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –‰ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, ―Ö–Ψ―²―è –¥–Β―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –≤ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―², –Ψ–Ϋ–Η –Ψ –Ϋ–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Α–Ω–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Α, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Θ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ω–Α–Ω–Β, –≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –Ϋ–Α―à―É –Μ–Η–Ϋ–Η―é. –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨: ¬Ϊ–ü–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α, ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤, –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Α ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Α¬Μ, –Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―² –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Η –Ζ–Α―â–Η―â–Α―é―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ―² –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö, ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―²–Α–Κ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ–Η–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. - –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥―΅–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―Ä–Ψ–Β –¥–Β―²–Β–Ι, ―²–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨βÄΠ - –Γ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β―²–Β–Ι –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –±―΄―²―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, ―è –¥―É–Φ–Α―é, –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨. –€―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β―²–Β–Ι, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, ―²–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι –Μ–Β–≥―΅–Β. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Φ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–≤–Ψ–Η―Ö-―²―Ä–Ψ–Η―Ö, ―²–Ψ ―²–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –≤ –¥–Β―²―è―Ö, ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β–Μ–Η –±―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Β―â–Β –¥–Β―²–Η, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Μ―É―΅―à–Β. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Φ–Η―Ä, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²―É. –î–Β―²–Η ―¹–Α–Φ–Η –Ε–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―΄―à–Α ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Η ―è, –Φ―΄ –≤―¹–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Β―â–Β –¥–Β―²–Β–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ―è―à–Κ–Η, –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Η –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι: ¬Ϊ–ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β, ―É –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η¬≠–Μ–Η―¹―¨ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –¥–≤–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η! –ü–Ψ―Ä–Α–¥―É–Ι―²–Β―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η!¬Μ –£―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β―²–Η ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ε–¥–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―΄―à–Α. –û–Ϋ–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–€–Α–Φ–Α, –Ϋ―É –Κ–Ψ–≥¬≠–¥–Α –Ε–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι? –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β ―²―΄ ―Ä–Ψ¬≠–¥–Η―à―¨ –Ϋ–Α–Φ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α?¬Μ.  –€–Α―²―É―à–Κ–Α –€–Α―Ä–Η―è ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –Λ–Ψ―²–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –· ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –¥–Β―²–Β–Ι, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ψ¬≠–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Η –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ –Η―Ö –Ϋ–Α–Φ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹―²–Α–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ, –Η ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ―¨―à–ΒβÄΠ –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨¬≠–Κ–Ψ –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η, ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―¨, ―è –¥―É–Φ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–Ξ–Ψ―²―¨ –±―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ, ―Ö–Ψ―²―¨ –±―΄ –Β―â–Β ―΅–Α―¹–Ψ–Κ –Ω–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –≤–Β–¥―¨ ―¹–Η–Μ –Ϋ–Η–Κ–Α¬≠–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―²!¬Μ. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α –Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ¬≠–¥–Η–Μ–Α –Κ –Φ–Α–Μ―΄―à―É,- –±―Ä–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Η, ―É–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Α, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ–Α, –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Α–Μ–Α, –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Α, –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α ―É–Κ–Ψ―Ä―è―²―¨ ―¹–Β–±―è: ¬Ϊ–ù―É, –Κ–Α–Κ –Ε–Β ―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―ɬ≠–Φ–Α―²―¨! –ö―²–Ψ –Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―è –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ―Ö–Β!¬Μ - –ê –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η –≤ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι, ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è, –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η, ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Η? - –½–¥–Β―¹―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹ –¥–Ψ―΅–Β―Ä―¨–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―Ä–Α―¹―²–Η–Μ–Η –¥–Β―²–Β–Ι, –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι. –€―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α–≤―è―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –Η –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ψ–±―â–Α―é―¹―¨, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β. –€―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥―É–Μ―è–Μ–Η, –Η –≤―¹―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É ―è –Η–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α ―¹―²–Η―Ö–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η, –Κ–Η–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α, –Η –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ–Ϋ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –Θ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Α, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –¥–Η–Α―³–Η–Μ―¨–Φ―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ.  –€–Α―²―É―à–Κ–Α –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –‰–Μ―¨―è―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹ –≤–Ϋ―É–Κ–Α–Φ–Η –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Ψ–Η –¥–Β―²–Η, –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Κ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―É, –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ―Ü―΄, –Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É –Η –Ω–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―É―â–Β―Ä–± ―Ä–Β–Ε–Η–Φ―É –¥–Ϋ―è, –≥―É–Μ―è–Ϋ–Η―é, –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ –¥–Β―²―è–Φ. –û–Ϋ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² ―¹–Α–Φ–Η –¥–Α―²―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―è–Φ –≤ ―²–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è ―ç―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ε–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –¥–Β―²―è–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Φ–Η―Ä–Α ―¹–Α–Φ–Α, ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β ―΅―É–Ε–Ψ–Ι ―²–Β―²–Β. –£–Β–¥―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Η―Ö –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –≤ ―¹–Α–¥, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ–Ψ ―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Α―É―΅–Α―² –Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. - –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η ―Ö–Ψ―²―¨ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨―¹―è, –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨ –Ψ―² –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―² –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É? - –€–Ϋ–Β ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Ψ―² –¥–Β―²–Β–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨. –£―΄–Κ―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ϋ–Β–Φ ―¹–Ω―è―², ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Μ―è–≥―É ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É ―΅–Η―²–Α―é. –û–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Β―Ö–Α―²―¨ –Ω–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι. –· –Ε–¥–Α–Μ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η, –¥―É–Φ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É –Ψ―² –Ζ–Α–±–Ψ―², –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É, –Κ–Α–Κ ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α, –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ –¥–Β―²–Β–Ι ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É. –£―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Β –Η―Ö –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, ―è –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –Α ―²―É―² ―è –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ε–Β βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η ―²–Α–Φ, –Α ―è –Ζ–¥–Β―¹―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ψ―² –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨.  –£ –¥–Β–Ϋ―¨ 60-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―é–±–Η–Μ–Β―è –Ψ―²―Ü–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α. –Λ–Ψ―²–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α - –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β, –Ϋ–Α –≤–Α―à –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β? - –ï―¹―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Η ―è –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β, –Η –¥–Β―²–Η ―²–Ψ–Ε–Β. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: ¬Ϊ–Θ―²―Ä–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Β–Β¬Μ. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≤―¹–Β ―É―¹―²–Α–Μ–Η, –≤―¹–Β –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Η―΅–Α―é―², –≤―¹–Β ―É–Ε–Β –≤―΄–±–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ ―¹–Η–Μ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É―²―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Β―à–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ βÄ™ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ ―¹―¹–Ψ―Ä–Α–Φ, ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –¥–Ψ ―É―²―Ä–Α, ―²–Ψ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Η –¥–Ψ–±―Ä–Β–Β. - –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –£–Α–Φ –Ζ–Α –±–Β―¹–Β–¥―É! –ë–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –ê–Ϋ–Ϋ–Α –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α
|
–û ―¹–Β–Φ―¨–Β –ê―Ä―²–Α–Φ–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –ü–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―³–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―²–Β–Μ–Β–Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹―é–Ε–Β―²―΄ –Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι - –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α, –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α, –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –Η –£–Α―Ä–≤–Α―Ä–Α. –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Β―¹―²–Η ―ç―²―É –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―² –≤―¹–Β–Φ –Ω―è―²–Η –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α–Φ. –½–Α―²–Β–Φ –ê―Ä―²–Α–Φ–Κ–Η–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –±―΄―²―¨ ¬Ϊ–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ¬Μ –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι. –‰–Μ–Η –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ? –Γ –≥–Μ–Α–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Α –ê―Ä―²–Α–Φ–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö βÄ™ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–Φ βÄ™ –Φ―΄ –±–Β―¹–Β–¥―É–Β–Φ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–Φ–Ϋ–Α–Ζ–Η–Η, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α―ë―² –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É. 
–î–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–Ζ ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Η- –Γ–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Μ―è –≤–Α―¹βÄΠ - –€–Ϋ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤–Ϋ–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η. –· –Ε–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ―é―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –†–Α–±–Ψ―²–Α, ―¹–Β–Φ―¨―è βÄ™ –≤―¹–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η ―è –±―É–¥―É ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –¥–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Η, ―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–¥–Β–Μ―é –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β―²―è–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≥―Ä―É―¹―²―è―². –ù–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Ω–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ –Η–Φ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è, βÄ™ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ. –Γ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ε–Β–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι ¬Ϊ–≤–Ϋ–Β―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η¬Μ, –≤ –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä. –Γ―²–Β–Ϋ–¥ ―¹ –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –¥–Β–Μ–Ψ –Β–Β ―Ä―É–Κ. - –†–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –≤ –≤–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Β―¹―²―¨: ―É –≤–Α―¹ βÄ™ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, ―É –Ε–Β–Ϋ―΄ βÄî –¥–Ψ–Φ –Η –¥–Β―²–Η? - –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Η –Ψ–±―â–Η–Β –¥–Β―²–Η, –Η –Φ―΄ –Ψ–±–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Η–Φ–Η. (–•–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―²―Ä–Α―²–Η―²). –ï―¹–Μ–Η ―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β–Ϋ βÄ™ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Η–≥―Ä–Α―é ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η, ―¹―²―Ä–Ψ―é –¥–Ψ–Φ–Α, ―΅–Η―²–Α―é, ―Ä–Η―¹―É―éβÄΠ –ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Φ–Α –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ϋ–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. - –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―ÖβÄΠ - –· –¥―É–Φ–Α―é, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Ψ―² –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –ï―¹–Μ–Η –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Η–Φ–Β―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ –≤–Η–¥―É, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–Β–Φ―¨–Β, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Κ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–ΦβÄΠ - –ö–Α–Κ –£―΄ –Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Β―²–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Β―¹–Μ–Η –≤–Η–¥–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Η―Ö? - –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―è –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―é. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Α –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Β–Ι. –ê –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Φ–Ϋ–Β, –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –£–Φ–Β―¹―²–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –‰ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η –Μ―é–±―è―² –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η–¥―É―² –¥–Β–Μ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –±–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―². –Γ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Η –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ–Φ–Α –≤ –Φ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β. –€–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ε–Β–Ϋ―΄ –Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Φ –¥–Ϋ–Β, –Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Κ–Α―Ö, ―à–Α–Μ–Ψ―¹―²―è―Ö –Η –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö. 
- –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―É –£–Α―¹ ―΅–Β―²–Κ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤: –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –£―΄ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ. - –· ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―¹―¨ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –¥―É–Φ–Α―é―²: ―Ä–Α–Ζ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ, –Ψ–Ϋ ―É–Φ–Β–Β―² ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ. –€–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≤–Β―â–Α–Φ–Η. –ï―¹–Μ–Η –≤―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹–Κ―É, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―¹―²–Β―Ä–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥―΄ ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Α –Ω–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Α–Μ–≥–Β–±―Ä–Β, ―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―΄ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―²–Α–Φ –Ϋ–Α–Ι―²–Η, βÄî ―ç―²–Ψ 8. - –ê –Κ―²–Ψ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Β–¥―É–Β―² –±―é–¥–Ε–Β―²–Ψ–Φ? - –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Α. –ö–Α–Κ –≤ –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Β: ¬Ϊ–™–¥–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –±–Β―Ä–Β―à―¨? βÄî –‰–Ζ ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Η. - –ê –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―²–Α–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è? - –•–Β–Ϋ–Α –Κ–Μ–Α–¥–Β―². - –ê –Ε–Β–Ϋ–Α –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –±–Β―Ä–Β―²? - –· –¥–Α―é. - –ê ―²―΄ –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –±–Β―Ä–Β―à―¨?! βÄî –· –Ε–Β ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: –Η–Ζ ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Η¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Α, –Φ―΄ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Β–Φ βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―² –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹? –ê ―²–Α–Κ, –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–Ε–Β–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² ―¹–Η–Μ. –Θ –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Ζ–Α―Ä–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Η –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 7 ―΅–Η―¹–Μ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Α (–Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Β―Ö–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Κ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É). –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –±–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ (–Ϋ–Α –Β–¥–Β –Φ―΄ –Β―â–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―²―¨, –Α –≤–Ψ―² –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ), –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―¹ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―². –™–¥–Β-―²–Ψ ―è ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―¹–Β–Φ―¨―é ―¹ –Κ―Ä–Α―é―à–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Μ–Β–±―É―à–Κ–Α –Ζ–Α –Ω–Α–Ζ―É―Ö–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ –≤–Ψ―², –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –¥–Β―²–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ ―΅―²–Ψ ―¹ –±–Α―²–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η βÄ™ ―¹ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―Ö–Μ–Β–±–Α. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è Libero –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≥―É–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Η. –î–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–Α –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ―É–Ω–Η–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ, –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –±–Α–Ϋ–Ψ–Κ –¥–Β―¹―è―²―¨βÄΠ –€–Α―à–Η–Ϋ―É –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –¥–Β―²–Η βÄî ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ζ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –Η –Ω–Β―Ä–≤―É―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é –¥–Β―²–Β–Ι. - –ï―¹―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–¥–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Η–¥–Β―²―¨, –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι? - ―¹ 9βÄ™10 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –¥–Β―²–Β–Ι ―É–Μ–Ψ–Ε–Η–Φ. - –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨? –ù―É, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Η –Ε–Β–Ϋ–Α –≤–Α–Φ –Ζ–Α–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α–ΙβÄΠ - –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Β―¹―²―¨ –≤ ―à–Κ–Α―³―É, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Η –Ζ–Α–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―². - βÄΠ –Η–Μ–Η –±―É–¥–Η―² –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–ΦβÄΠ - –ë―É–¥–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è –±―É–¥–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ. –ö―É–¥–Α –Ε–Β –Ε–Β–Ϋ–Β –Β―â–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨-―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ ―É―²―Ä–Ψ–Φ? –Θ –Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―² ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Α ―¹–Ω–Η―², –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Β―²–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ―É―². –ê ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η βÄ™ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε–Β―², ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι, –Α ―΅―²–Ψ- –Ϋ–Β―². –ë―΄–Μ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è, ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Β―²–Α –Φ―΄ –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –Ω–Μ–Β–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Α―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―²–Η –Η, –Φ―΄, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –Β–Ζ–¥–Η―²―¨. –ù―É –Η ―΅―²–Ψ? –ö―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ–¥―Ä–Α―¹―²―É―² –¥–Β―²–Η, –Η –Φ―΄ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –±―É–¥–Β–Φ –Κ–Α―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ϋ–Β―²βÄΠ - –î–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ―΅–Β–Κ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―É–Β―²―¹―è –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ? - –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Ψ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹–Α–¥–Η―²―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –î–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ―΅–Β–Κ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―É–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Η―Ö ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ ―è–≤–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–¥–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹. 
–ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―É–Β–Φ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ-―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É: –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η ―Ä–Α―¹―²―É―², –Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è. –£–Ψ―² –Ϋ–Α 4-–Μ–Β―²–Η–Β –¥–Ψ―΅–Β–Κ –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Κ―É–¥–Α –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –Η―Ö ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β –¥–Β―²–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è: –Ω–Β–Μ–Η, –≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥, –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η, ―É–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Η, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Κ―É–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨, –¥–Η–Α―³–Η–Μ―¨–Φ. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –≤―¹–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ. –ü―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Α –≤―¹–Β, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, –Ε–Β–Ϋ–Α. –ê –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Φ―΄ –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –€―΄ –¥―É–Φ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η, –Κ–Α–Κ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ―Ä―É–≥ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι. –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η ―¹–Β–Φ―¨―è βÄ™ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è: ―¹–Β–Φ―¨―è βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β βÄ™ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –¥–Η–Κ–Ψ―¹―²―¨―é. - –ê ―΅―²–Ψ, –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β –Η–≥―Ä–Α―é―² ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η? - –ü–Ψ–Κ–Α –Η–Φ –Η –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –ï―¹–Μ–Η ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ–Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, –Β–Φ―É ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ ―²–Β―¹–Ϋ―É―é ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é, ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±–Β–Ζ ―¹–Μ–Ψ–≤ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―é―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Η–≥―Ä–Α―²―¨. –‰ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ ―¹ ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤ ―Ä–Ψ―² ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―², –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ψ βÄî –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ–Α―é―², –≤–Η―¹―è―², –Ω―Ä―΄–≥–Α―é―². –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―É –Ϋ–Η―Ö –Β―¹―²―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Ι –Κ―Ä―É–≥ –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤ –Η ―¹–Β―¹―²–Β―Ä (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É –Ϋ–Η―Ö –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ). –€–Α–Φ―΄, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –±–Ψ―è―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η―Ö ―΅–Α–¥–Ψ ―É–Ω–Α–¥–Β―², –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―é―² –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ–Α―²―¨ –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ. –ê –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Η–Κ―²―É–Β―² ―²–Α–Κ–Η–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è, ―΅―²–Ψ –Φ–Α–Φ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―ç―²–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Β –Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –¥–Β―²–Β–Ι –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –≥–Ψ―Ä–Κ―É. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―É ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ ―¹–Η–Ϋ―è–Κ–Η –Η ―¹―¹–Α–¥–Η–Ϋ―΄, –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ –Φ–Η―Ä. 
–ö–Α–Κ–Ψ–Β ―΅―É–¥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β?- –ù–Β ―²–Α–Κ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –Η –Β–Β –Φ―É–Ε―É ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―é―² –Ϋ–Α –Θ–½–‰, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ε–¥―É―² ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω―è―²―¨ –Φ–Α–Μ―΄―à–Β–Ι. - –î―É–Φ–Α―é, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Β―² ―²–Β –Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α. –Γ–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Η. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Η ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α βÄ™ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ζ–Α –Ε–Β–Ϋ―É, –Ζ–Α –¥–Β―²–Β–Ι. –î―É–Φ–Α―é, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―é―²―¹―è –Ζ–Α ―¹―É–Ω―Ä―É–≥―É –Η –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α. –£–Β–¥―¨ –Η ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Φ–Α–Μ―΄―à–Ψ–Φ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β. –†–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ βÄ™ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―΅―É–¥–Ψ. –†–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―΅―É–¥–Ψ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ?! –ö―¹―²–Α―²–Η, ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Β –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Θ–½–‰ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Η―Ö –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ. –£―Ä–Α―΅–Η –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―è―²―¨ βÄ™ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –‰ –≤–Ψ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―Ö ―²–Α–Φ, –Φ―΄ –¥―É–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Μ―É―΅―à–Β: –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Β–Β –Η –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι, –Η –¥–Μ―è –Φ–Α–Φ―΄. –ê ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è-―²–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ βÄ™ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β! 
- –ü–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―²–Β–Ι ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è–Β―², –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ö–Α–Κ–Η–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è –±―΄–Μ–Η ―É –≤–Α―¹? - –Θ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Α –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –Γ–Α–Φ―΄–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι. –ù–Α–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–£―΄ –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―²–Β –Η–¥–Η–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄ –≤–Ζ―è–Μ―¹―è –≤–Β―¹―²–Η ―²–Α–Κ―É―é –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ, –Η–Μ–Η ¬Ϊ–£―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ –£–Α―à–Α –Ε–Β–Ϋ–Α ―É–Φ―Ä–Β―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η?¬Μ –£ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –½–Α―â–Η―²―΄ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α (–Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β) ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Η–Μ–Η―É–Φ, –Η ―ç―²–Η –Φ–Α―¹―²–Η―²―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ–Η –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨, –Η –Ω―Ä–Ψ–≥–Ϋ–Ψ–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Μ–Η―²―¨―¹―è –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ –¥–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―É –≤ ―²―É–Ω–Η–Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬Ϊ–€―΄ βÄ™ –≤–Β–¥―É―â–Η–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä, –Η –Φ―΄ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―¹―è –Ψ―² –≤–Α―¹, –Ϋ–Η–≥–¥–Β –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–± ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω―è―²–Β―Ä–Ϋ―è –Η –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ¬Μ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Κ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―²―¨ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι. –ß―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨: –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ, –Ω–Ψ –Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É–±–Η―²―¨. - –ö–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –≤―Ä–Α―΅–Α –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η? - –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö. –‰ ―ç―²–Ψ―² –≤―Ä–Α―΅ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –≤–Β―¹―²–Η –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω―è―²–Β―Ä–Ϋ―è –Η –≤―¹–Β ―É –Ϋ–Η―Ö –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ, –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α―é―². –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤―¹–Β―Ö –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹, –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―¹–≤–Β―²–Α, –Η–Ζ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Κ–Η, –Η–Ζ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄, –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η, –ê–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Η –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ϋ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Α –≤–Α―¹ ―²–Ψ–≥–¥–Α –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Φ–Ψ–Μ–Η–Φ―¹―è. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹ ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹―è –≤―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨. –ü–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Φ―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –≠―²–Ψ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ë–Ψ–≥–Α. –€―΄ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―É –‰–Φ–Ω–Η, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Η –≤―¹–Β–Φ, –Κ―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Β –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―é –≤―¹–Β –≤―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅. –‰–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ βÄ™ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β. –Γ–≤–Ψ–¥–Κ–Η βÄî –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²–Ψ-―²–Ψ –Η ―²–Ψ-―²–Ψ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Η―²―¨ –¥–Β―²―è–Φ –Η―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –±―΄―²―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –ë–Ψ–≥–Α. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –£ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ε–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ. –Δ–Η―Ö–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Β―²- –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –¥–Ψ–Φ–Α ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η? - –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η –¥–≤–Β―Ä―¨ –Η –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Η: –≤–Ψ―² –Φ―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨, –≤–Ψ―² –Φ―΄ –¥–Ψ–Φ–Α! –ë―΄–Μ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Β―², –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Φ–Ψ–Η ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –Η –£–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η. –ê ―²–Α–Κ–Ε–Β βÄî –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ –Η, –Β―¹–Μ–Η ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨. –£ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η. –Δ–Α–Κ –Ε–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Α –≤–Η―Ü–Β-–Φ―ç―Ä –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –®–≤–Β―Ü–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤―Ä―É―΅–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ –Κ–Μ―é―΅–Η –Ψ―² –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ βÄ™ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Α –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α βÄ™ –Η –Ψ–±–Β―â–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –ë―΄–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β―¹―¹―΄, ―à―²―É–Κ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―²–Β–Μ–Β–Κ–Α–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Β―². –£―¹–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β. –î–Α, –Φ―΄ –Β―Ö–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η―é, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Β–¥–Β–Φ –Ω–Ψ ―ç―²–Η–Φ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ –±–Ψ–Μ–Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ, –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ βÄî –≥―Ä―è–Ζ―¨, ―¹–Μ―è–Κ–Ψ―²―¨, ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Α. –ù–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ―΄ βÄ™ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –£―¹–Β–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β. –€―΄ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–¥―΄ –Η–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―¹–Κ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Β. –î–Β―²–Β–Ι ―É–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―¹–Ω–Α―²―¨. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ ―¹–Β–±–Β: –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α –±―΄–Μ–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è ―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ ―²―Ä–Β―Ö–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ―É―é, –¥―É–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Φ―¹―è (–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Β―΅―²–Α–Μ). –£―¹–Β –Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η.  - –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β –Η–¥–Β―²–Β βÄ™ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β―Ö ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨? - –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β –Η–¥–Β―²–Β βÄ™ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β―Ö ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨?
- –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –¥―É–Φ–Α―²―¨: –Α –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨? –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ βÄ™ –Η–¥–Β–Φ. –•–Β–Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β―² –¥–≤―É―Ö –¥–Ψ―΅–Β–Κ –Ζ–Α ―Ä―É–Κ–Η, ―è βÄ™ ―²―Ä–Β―Ö, –Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ βÄ™ –≤–Ζ―è―²―¨ ―²―Ä–Β―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –≤ –¥–≤–Β ―Ä―É–Κ–Η. –ù―É –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Α―Ä–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ–± ―Ä–Α–Ζ–±–Β–≥–Α―²―¨―¹―è. - –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―΄ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―é―²―¹―è? - –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α βÄî ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β. –ù–Ψ –≤–Ψ―² ―²–Η―Ö–Η―Ö –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥–Ψ―΅–Β–Κ βÄ™ –Ϋ–Β―². –£―¹–Β –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Β, ―à―É–Φ–Ϋ―΄–Β, ―à―É―¹―²―Ä―΄–Β. - –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²–Β –¥–Β―²―è–Φ –Ω–Ψ―à–Α–Μ–Η―²―¨? - –€―΄ –Ω―΄―²–Α–Β–Φ―¹―è –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ. –ë―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹―²―É–Ω–Η–Φ, –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―Ö–Ψ―²―è―², –Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–±―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ―΄ ―É―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η, –Α –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η―¹―¨. –ù–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β. –‰ –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤―΄ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤―΄, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η ―É–Ε–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ, –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Φ–Η. –‰ –Ψ–Ϋ–Η ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―². –û–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ζ–Α–±―΄―²―¨―¹―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Η –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Κ–Α―Ö –Η –≤ –Ω–Η–Ε–Α–Φ–Α―Ö –≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É―é. –ê –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ ―¹―²–Ψ–Η―² –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Α―è –Ψ–±―É–≤―¨. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ, –Η –±–Β–≥―É―² –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α ―Ö–Ψ―²―è―² ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―è, ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è –±―΄―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ–Η, –Η–Φ ―ç―²–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ. - –ö–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Κ–Α―Ö –≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É―éβÄΠ - –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β ¬Ϊ–Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è¬Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―É –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ¬Μ βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω―è―²–Β―Ä―΄–Φ βÄ™ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –‰ –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–Ε–Α―²―΄ –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ε–Β―¹―²–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Φ–Κ–Η. –î–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ―²―Ä―è–¥–Α- –ê –Κ–Α–Κ –£―΄ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨? - –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ö―Ä–Α–Φ, –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ―É βÄ™ –Β–Β –Ψ―²―Ü―É. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Β–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ψ–≤―É―² –£–Α―Ä―è. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ε–Η–Μ–Η –≤–Ψ―² ―²–Α–Κ βÄî –Ω–Ψ―΅―²–Η –±–Ψ–Κ –Ψ –±–Ψ–Κ (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –¥–Ψ ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄ –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―ç―²–Α–Ε–Α―Ö –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥–Β), ―è ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ ―É –Ϋ–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Α, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –£–Α―Ä–Η–Ϋ―΄–Φ –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ. –£ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β ―É –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι (–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ–Β–Ι ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–≥ –¥–Ψ –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –±―΄–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ). –û–±―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ –Η ―¹ –£–Α―Ä–Β–Ι: –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η, –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹―²–Α–Μ–Η ―²–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄. –ù–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–ΗβÄΠ - –ö–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è –±―΄–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η? - –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―éβÄΠ –†–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Ι –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è–Φ–Η?.. –Ξ–Ψ―²―è –Ϋ–Β―², –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―Ö–Ψ―²―è ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β ―à―É―²–Κ–Α ―²–Α–Κ–Α―è: –Φ―΄ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –¥–Β―²–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨―é ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι. –•–Β–Ϋ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è βÄî ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―Ä–Β―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –Α ―è –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥―¹–Φ–Β–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ 4 ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è. –ê –≤–Ψ―² 8-9 βÄ™ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Α―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―É–¥―É―² ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è, ―²–Α–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η, ―¹―è–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –¦―é–±―΄–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄. - –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨? - –ö–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è–Μ. –ù–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Α –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι: –Ϋ–Α―¹ ―É ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι βÄî –¥–Β–≤―è―²―¨. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―²? –î–Μ―è –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö βÄ™ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –î–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ βÄî –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ. –ï―¹–Μ–Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ, –≤ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Η―à–Β βÄ™ –≤ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β. –ï―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ –Κ―É–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² βÄ™ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω―É―¹―²–Ψ –Η ―²–Η―Ö–Ψ. –‰ –¥–Β―²–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Η. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι, –Η ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Φ–Α–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –≠―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –≠―²–Ψ ―¹–Β–Φ―¨―è. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨, ―²–Ψ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ: –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, –≤―¹–Β –¥–Ψ–Φ–Α, –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―² –¥–Ψ–Φ–Α βÄ™ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Α–±―¹―²―Ä–Α–Κ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü―΄. 
- –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤―΄ βÄ™ ―¹–Β–Φ―¨―è? - –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α. –£―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Ζ–Α―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄, –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Κ–Α―΅–Ψ–Κ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ. –ù–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β―² –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² ―¹–Κ–Α―΅–Ψ–Κ βÄ™ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η βÄ™ –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ö–Α–Ε–¥–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨. –€―΄ ―¹ –£–Α―Ä–Β–Ι –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι. –‰ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Φ―΄ –Ϋ–Β –≤―΄―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ―è–≤ –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ö–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ, –Η–Μ–Η –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Β –≤–Β―â–Η –Φ―΄ ―¹ –£–Α―Ä–Β–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ. - –Γ―¹–Ψ―Ä―΄ ―¹–Μ―É―΅–Α―é―²―¹―è? - –ö–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²―΄ βÄ™ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α―é―². –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Μ―é–¥–Η ―É―¹―²–Α―é―². –ù–Ψ ―¹―¹–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è –±―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―É―¹―²–Α–Μ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ε–Β ―É―¹―²–Α–Μ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Β. –£–Ψ―² –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―². –£ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ–±–Α –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–≤―à–Η–Β, –Η –≤―¹–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η, ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É. –ï―¹―²―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄. –‰ ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Α–¥–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, –Α –Ϋ–Β –Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è. –ê –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –≤―¹―ë ―²–Α–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è- –Γ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β―²–Β–Ι (–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β) –≥―Ä―É–Ζ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―èβÄΠ - –‰ –¥–Α, –Η –Ϋ–Β―². –û―² –Ϋ–Α―¹ –Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―². –î―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι, –Η ―²―É –Φ–Α–Μ―É―é ―²–Ψ–Μ–Η–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―², –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―¹―²–Ψ. ¬Ϊ–î–Β–Μ–Α–Ι, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Η –±―É–¥―¨ ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―²¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β―²–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β―Ä―è–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ζ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–ΗβÄΠ –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η: ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―² –Ϋ–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, –Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ―è ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Ϋ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β―²–Β–Ι. –ï―¹–Μ–Η –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² βÄ™ –Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ? –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ. –î–Β―²―è–Φ βÄ™ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ. –£–Ϋ–Β―à–Ϋ―è―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ϋ–Β –Η–≥―Ä–Α–Β―², –Β―¹–Μ–Η ―¹ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ß–Α―¹―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨: ¬Ϊ–· –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ―É ―²–Ψ, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β¬Μ. –ê ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ―É ―ç―²–Ψ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ. –ï–Φ―É –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–Φ–Α –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ê ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –· –Ζ–Ϋ–Α―é –¥–Β―²–Β–Ι, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –Η–≥―Ä―É―à–Β–Κ, –Ϋ–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Η–≥―Ä–Α―²―¨, –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―² ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ–± –Η–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Κ―É–Ω–Η–Μ–Η –Β―â–Β –Η –Β―â–Β, –Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―èβÄΠ –‰–≥―Ä―É―à–Β–Κ, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β. –ß–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―â–Β –Η–≥―Ä―É―à–Κ–Α, ―²–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≤ –Ϋ–Β―ë –Η–≥―Ä–Α―²―¨, ―²–Β–Φ –±–Ψ–≥–Α―΅–Β –±―É–¥–Β―² ―É ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Α ―è―Ä–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–≥―Ä―É―à–Κ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–±–Η–≤–Α―é―² –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β (–Α –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β) ―³–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨βÄΠ 
- –ö–Α–Κ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è: –±―΄–≤–Α–Β―², –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –¥–Μ―è ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―¹–Κ―É―é βÄ™ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è. –û―²―¹―é–¥–Α βÄ™ ―¹―²―Ä–Α―Ö ¬Ϊ–Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α¬Μ, ―É–Ϋ―΄–Ϋ–Η–ΒβÄΠ - –· –Ζ–Α―â–Η―²–Η–Μ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―¹–Κ―É―é –Β―â–Β –¥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β―²–Β–Ι. –î–Α, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Ψ–Ι –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è. –ù–Ψ ―ç―²–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Ϋ–Β ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –Δ–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â–Β –¥–Ψ –Η―Ö ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ê ―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―²―¨? –ù–Β –≤–Η–Ε―É –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α. –ö―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α βÄ™ –Ϋ–Β –±–Ψ―é―¹―¨. –· –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―é –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α―¹―²–Α―²―¨, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² βÄ™ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α―²―¨. –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–ΒβÄΠ –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―è –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –¥–Β–Μ–Α―é ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤ ―²–Β―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –≥–¥–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é, ―΅―²–Ψ ―è ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é, ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β–Μ–Α―é. –· –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―É–Ϋ―΄–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―². –î–Β–Μ–Α–Β―à―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨. –ë―΄–≤–Α―é―² ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ ―²―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –≤―΄―à–Β ―¹–Η–Μ –Ϋ–Β –¥–Α―¹―². –Λ–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Η–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α ―¹–Β–Φ―¨–Η –ê―Ä―²–Α–Φ–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö. 













|
–ü―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ –≤–Α―à–Β–Φ―É –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–£–Ψ–¥–Α –Ε–Η–≤–Α―è¬Μ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –Φ–Β―΅―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –±―É–¥–Β―² –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι. –£ ―¹–Β–Φ―¨–Β –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –¦―É–≥–Η ―ç―²–Α –Φ–Β―΅―²–Α ―¹–±―΄–Μ–Α―¹―¨, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ω―É―²―¨ –Ψ―²―Ü–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Η –Φ–Α―²―É―à–Κ–Η –‰―Ä–Η–Ϋ―΄ –Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-–¥–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ: –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Α –¥–Ψ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―à–Β–ΜβÄΠ –≤―¹–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –≥–Ψ–¥. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―é―² –¥–Β―¹―è―²–Β―Ä―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α―é―², –≥–¥–Β ―¹–≤–Ψ–Η, –Α –≥–¥–Β –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Β. 
–Δ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨?¬Ϊ–ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Α–Κ ―è –≤―¹–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é, –Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Α–≤–Α –ë–Ψ–≥―É, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―¹―¨. –· ―¹–Α–Φ–Α –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι βÄî ―ç―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ,?βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α –‰―Ä–Η–Ϋ–Α. ¬Ϊ–ê ―è –Ϋ–Β –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η,?βÄî –≤―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä.?βÄî –ù–Ψ –Ω–Ψ ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Β–¥–Η–Κ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η¬Μ. –‰–Β―Ä–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ –¥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―³–Β–Μ―¨–¥―à–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η¬Μ. –‰―Ä–Η–Ϋ–Α βÄî –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥-–Μ–Ψ–≥–Ψ–Ω–Β–¥, –Ϋ–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―²: –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –ß―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―΅–Κ–Ψ–Φ –Κ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α –Μ―é–±–≤–Η, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω―É–≥–Α–Μ–Η –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –±―΄―²–Ψ–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄? ¬Ϊ–Γ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Κ –ë–Ψ–≥―É: –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―É―é –¥–Α―²―É –Η–Μ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β,?βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä.?βÄî –£–Ψ―² –Η ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Α―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι: ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –· ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ –î–Ψ–Φ –Φ–Α–Μ―é―²–Κ–Η, ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²―É–¥–Α –Κ―Ä–Β―¹―²–Η―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Α―²―¨ –Φ–Α–Μ―΄―à–Β–Ι, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Α –≥–Μ–Α–≤–≤―Ä–Α―΅–Α. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Η–¥–Η―à―¨ –¥–Β―²–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤ –¥―É―à–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –î–Α, –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―à–Η―². –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―à―¨―¹―è –≤ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, –≤―¹–Β –¥–Β―²–Η –±–Β–≥―É―² –Κ ―²–Β–±–Β –Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―²: βÄû–Δ―΄ –Φ–Ψ–Ι –Ω–Α–Ω–Α?βÄ€ –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É –Β―â–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨: –Η―Ö –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―² –Ϋ―è–Ϋ–Β―΅–Κ–Η, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄, –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä―΄, –Α –≤–Ψ―² –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―É –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –†–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι ―É –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö –¥–≤–Ψ–Β βÄî –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ―è―à–Κ–Η –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ –Η –ö―¹–Β–Ϋ–Η―è. ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α ―É –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ―è―à–Κ–Η, ―è –≥―É–Μ―è–Μ–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―¹ –Κ–Ψ–Μ―è―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Φ–Ψ –î–Ψ–Φ–Α –Φ–Α–Μ―é―²–Κ–Η,?βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –‰―Ä–Η–Ϋ–Α.?βÄî –û―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Α ―¹–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤–Η–¥–Η–Φ –¥–Β―²–Β–Ι, ―Ä–Α―¹―²―É―â–Η―Ö –±–Β–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –€―΄ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Η, –≥–¥–Β –¥–≤–Ψ–Β, ―²–Α–Φ –Η ―²―Ä–Ψ–Β, –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α. –û–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ê –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –ë–Ψ–≥. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ: –Ϋ–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α –Γ–≤–Β―²–Α, –Ψ–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Κ –Ψ―²―Ü―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–Β –Β―¹―²―¨ –±―Ä–Α―² –Η ―¹–Β―¹―²―Ä–Α. –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –î–Ψ–Φ–Α –Φ–Α–Μ―é―²–Κ–Η –Ϋ–Α–Φ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: βÄû–ï―¹–Μ–Η –≤―΄ ―ç―²―É –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β –≤–Ζ―è―²―¨, –Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ―É―΅–Α―²―¨βÄ€. –€―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η, ―Ä–Η―¹–Κ–Ϋ–Β–Φ. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ –Η ―¹–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η, –Α –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Β―²―è–Φ –Η –Γ–≤–Β―²–Β –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Η–Κ–Α. –€–Α―à–Α –Ε–Η–Μ–Α –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, –£–Η―²–Α–Μ–Η–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Β¬Μ. ¬Ϊ–†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –€–Α―à–Η, –£–Η―²–Α–Μ–Η–Κ–Α –Η –Γ–≤–Β―²―΄ –Μ–Η―à–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤,?βÄî –≤―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä.?βÄî –€―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –î―è–¥―è, –±―Ä–Α―² –Η―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Α –≤–Ψ―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Ε–Η–≤–Β―², –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Α―Ä―É ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η. –ù–Ψ –Φ―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Η–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è: –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–≤–Φ―΄, –Ψ―² –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ε–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è. –î–Β―²–Η ―É―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ ―¹–Β–±―è, –Ζ–Α–Φ―΄–Κ–Α―é―²―¹―è. –î–Α, –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –≥–¥–Β-―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨¬Μ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –€–Α―à–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Β―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥―É –¦―é–¥―É –Η –Β–Β –±―Ä–Α―²–Α –ö–Ψ―¹―²―é. –ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É –Μ–Β―²–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―è–Μ–Η –¥–Β―²–Β–Ι –≤ ―¹–Β–Φ―¨―é. –Δ–Α–Κ –Ζ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–¥ –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Η –‰―Ä–Η–Ϋ–Α –Ψ–±–Ζ–Α–≤–Β–Μ–Η―¹―¨ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω―è―²―¨―é –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä―¨–Φ―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Φ–Η. ¬Ϊ–€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è, –Α –≤–Ψ―² ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ,?βÄî –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –‰―Ä–Η–Ϋ–Α.?βÄî –ï―¹–Μ–Η ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Β―² –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Β–¥―É―² –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–±–Β―Ä―É―². –î–Β―²–Η –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –Μ―é–±―΄–Β, ―¹–Α–Φ―΄–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄. –€–Α–Φ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ –Η―Ö –Η ―΅–Α―¹ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–≥―É–Μ―è―²―¨, –Α –Ψ–Ϋ–Η –±―É–¥―É―² –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Α–Φ–Α –Η–Φ –Κ―É–Ω–Η–Μ–Α, –Κ–Α–Κ―É―é ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Κ―ÉβÄΠ¬Μ ¬Ϊ–€―΄ –Κ―É–¥–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Β –≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Η –Ϋ–Β –¥–Α―Ä–Η–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ. –ù–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É―²―¨: –Ϋ–Β ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨, –Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨¬Μ,?βÄî –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä. –‰―Ä–Η–Ϋ–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²: ¬Ϊ–€–Β–Ϋ―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –¥–Β―²–Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É, –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Η–Ζ–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Ι. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―¹–Β –Ζ–Ψ–≤―É―² –Ϋ–Α―¹ –Φ–Α–Φ–Ψ–Ι –Η –Ω–Α–Ω–Ψ–Ι, ―Ö–Ψ―²―è –Φ―΄ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η. –î–Α, ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Η –¥–Β―²–Η, ―¹―΅–Η―²–Α–Ι―²–Β, ―è –Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α!¬Μ –î–Ψ–±–Α–≤–Μ―é, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –¥–Β―²–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―è―² ¬Ϊ–Φ–Α–Φ–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–Ω–Α–Ω–Α¬Μ ―¹ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Μ–Α–¥―΄, –Ϋ–Α―Ä–Α―¹–Ω–Β–≤, ―΅–Α―¹―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Ψ―² ―ç―²–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―é―² –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η. –£–Ζ―è–≤ –≤ ―¹–Β–Φ―¨―é –Γ–≤–Β―²―É, –£–Η―²–Α–Μ–Η–Κ–Α, –€–Α―à―É, –¦―é–¥―É –Η –ö–Ψ―¹―²―é, –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. ¬Ϊ–·–Ϋ―É, –£–Α―¹–Η–Μ–Η―¹―É –Η –ê―Ä―²–Β–Φ–Α –Φ―΄ ―É―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η, ―É –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―²,?βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä.?βÄî –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ βÄî –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β―²–Η, –Ϋ–Ψ―¹―è―² –Ϋ–Α―à―É ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é. –ê –Ϋ–Α–¥ –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η –Ψ–Ω–Β–Κ―É. –ï―¹–Μ–Η ―É―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è–Β―à―¨ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ ―²–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―²–Η―², –Α –Ζ–Α –Ψ–Ω–Β–Κ―É–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ω–Μ–Α―²–Η―². –î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è –Ϋ–Α –Ω―è―²–Β―Ä―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι βÄî –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―¹–Ω–Ψ―Ä―¨–Β. –Ξ–Ψ―²―è ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –≤ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Ψ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è –Η –Ϋ–Α ―É―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Η –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Α –¥–Ψ 18 –Μ–Β―². –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Α –Ϋ–Β –Φ–Η–Ζ–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Κ–Α¬Μ. –ö–Α–Κ –Ε–Η–≤–Β―²–Β? –ö–Α–Κ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Η–Κ?..–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Α―é―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β –≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Η–≥―Ä–Α―é―² ―Ä–Ψ–Μ–Η –Φ―É–¥―Ä―΄―Ö –Α―Ä–±–Η―²―Ä–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –±―É–¥―É―â–Η–Β –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, –Ϋ–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Β–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ―é–±–Η―²―¨, –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨-–Ψ–¥–Β–≤–Α―²―¨ –Η ―É―΅–Η―²―¨, –Ϋ–Ψ –Η –Μ–Β―΅–Η―²―¨. ¬Ϊ–€–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Ψ–≤,?βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä.?βÄî –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹―¹–Ψ―Ä ―É –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ―²–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Μ―É―΅―à–Η–Ι. –Θ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Κ–Α –Η –€–Α―à–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Α―²―è–Ϋ―É―²―΄–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –±―Ä–Α―² –Η ―¹–Β―¹―²―Ä–ΑβÄΠ –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ―΄ ―Ä–Β―à–Α–Β–Φ ―ç―²–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄¬Μ. –ö–Α–Κ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ―¹―É–≥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –¥–Β―²–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ–Η? –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ¬Ϊ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α¬Μ: –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α ―É –Ψ―²―Ü–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Ω―è―²–Η–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è, –Β―¹–Μ–Η –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α―é―² –Κ―É–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ―É –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö. –Ξ–Ψ―²―è ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Β―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Ψ–Κ (–Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―³–Α–Κ―²) –¥–Β―²–Η ―¹–Μ―É―à–Α―é―²―¹―è, –Β―¹–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Β–≥–Α―é―²―¹―è, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É ―¹–Μ–Ψ–≤―É. ¬Ϊ–€―΄ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Β–Ζ–¥–Η–Φ –Κ―É–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β,?βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –‰―Ä–Η–Ϋ–Α.?βÄî –€–Μ–Α–¥―à–Η―Ö –Ζ–Α ―Ä―É–Κ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ–Β–¥―è―². –Γ―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è –≤―΄–±―Ä–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ: –Η –≤ –Ω–Α―Ä–Κ–Α―Ö –≥―É–Μ―è–Β–Φ, –Η –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Η –Β–Ζ–¥–Η–Φ, –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –±―΄–≤–Α–Β–Φ ―΅–Α―¹―²–Ψ. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Β―²–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –Β―â–Β –Η ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β: ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―é―² –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ¬Μ. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α―é―²?.. ¬Ϊ–Θ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ, –¦―é–¥―΄ –Η –€–Α―à–Η, ―¹–≤–Ψ―è –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α,?βÄî –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä.?βÄî –Δ–Α–Φ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―É―Ä–Ψ–Κ–Η. –ê –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι ―É –Ϋ–Α―¹ ―É―΅–Α―²―¹―è –≤ ―²―É–±–Β―Ä–Κ―É–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Β¬Μ. ¬Ϊ–€―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Η―Ö –Ψ―²―²―É–¥–Α –≤ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Ϋ–Β –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α―²―¨, –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―² βÄî –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―΅–Η―²―¨ –Η, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ–Ζ ―¹–Ϋ―è―²―¨,?βÄî –≤―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –≤ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –‰―Ä–Η–Ϋ–Α.?βÄî –Θ –≤―¹–Β―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―¹–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β–Φ, –≤―¹–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α―é―²―¹―è –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Η. –Θ –Γ–≤–Β―²–Ψ―΅–Κ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Α―è –¥–Η–Κ―Ü–Η―è. –ù–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Α–¥–Β–Β–Φ―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α –≤―΄―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è―é―²―¹―è. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è¬Μ. ¬Ϊ–Θ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―¹―΄,?βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä,?βÄî –≤ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –±―΄–Μ –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ–Ζ βÄû–≥–Β–Ω–Α―²–Η―² –ΓβÄ€, –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α―è –Β–Β, –Φ―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ–Ζ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ―¹―è: –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Ϋ–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ―É –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤, –¥–Β―²–Η-–Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Ϋ–Η–Κ–ΗβÄΠ –Γ–Β–Φ―¨―è –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Α ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ö–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ―²―Ü–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Β ―é–≤–Β–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―é―¹―²–Η―Ü–Η–Η –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η? ¬Ϊ–ù–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―è ―é–≤–Β–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―é―¹―²–Η―Ü–Η―è, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è,?βÄî ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ.?βÄî –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β, ―΅―É–Ε–¥–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Η, –Μ―é–±–Ψ–Ι –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Β, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―É ―¹–Φ―΄―¹–Μ―É! –†–Β–±–Β–Ϋ–Κ―É –Μ―É―΅―à–Β –±―΄―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―΅―É–Ε–Ψ–Ι –¥―è–¥―è –Η–Μ–Η ―²–Β―²―è –Μ―é–±–Η―²―¨ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–≤–Α―é―² ―¹–Μ―É―΅–Α–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β ―²–Α–Κ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―²―²―É–¥–Α –Η–Ζ―ä―è―²―¨, –Ϋ–Ψ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Α–Ω–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ βÄî –±–Β–Ζ―É–Φ–Η–Β! –£―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –≤ –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –°–≤–Β–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―é―Ä–Η―¹―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ζ―É―Ä–Β, –Β–≥–Ψ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Α. –Γ―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –Ψ–¥–Η–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―Ä–Β―à–Α―²―¨, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι ―É ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―². –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―¹―É–¥―¨–±–Α ―é–≤–Β–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―é―¹―²–Η―Ü–Η–Η –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η–Β, ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ –≤–Β―Ä―É―é―â–Η―Ö. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β ―¹–Η–Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è!¬Μ –ù–Ψ –Φ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―² –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε –Ω–Μ–Ψ―Ö!–ß–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Α―é―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É―² –Ψ–Ϋ–Η –¥–Β―²–Β–Ι, –Α ―É–¥–Α―¹―²―¹―è –Μ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨ –Η―Ö –≤ –≤–Β―Ä–Β? ¬Ϊ–ù–Α―à–Η –¥–Β―²–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ―΄–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Φ―΄ –Η―Ö –Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η, –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Β –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ―΄ –≤―΄―΅–Η―²―΄–≤–Α―é―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η ―Ä–≤―É―²―¹―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ –≤ –Α–Μ―²–Α―Ä–Β¬Μ,?βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –‰―Ä–Η–Ϋ–Α. –ü–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ? –ë–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Η–≥―Ä–Α–Β―² ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Β―²–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é, –Α –≤ ―¹–Β–Φ―¨―é ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η ―É –Φ–Α―²―É―à–Κ–Η –Β―¹―²―¨ –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β: –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α –Γ–≤―è―²–Ψ-–‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ –Ω―Ä–Η –û―²–¥–Β–Μ–Β ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Β–Ω–Α―Ä―Ö–Η–Η. –ï―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α, –≤―¹―²–Α―é―â–Α―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η βÄî –≥–¥–Β –Ε–Η―²―¨. –Δ―É―² –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ: ¬Ϊ–€―΄ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –≤ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –Ζ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―²―É–¥–Α –Β–Ζ–¥–Η–Φ –Μ–Β―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –¥–Α―΅―É. –€―΄ –±―΄ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ―É–Φ–Α –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ ―¹―é–¥–Α –Ε–Η―²―¨, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ, –Φ―΄ –Ω–Μ–Α―²–Η–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Μ―É–≥–Η¬Μ,?βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –‰―Ä–Η–Ϋ–Α. –ö–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α ―Ö–Ψ―²―¨ –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è, –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ βÄî –Κ―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Α―è –Κ―É―Ö–Ϋ―è, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨―¹―è –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ ―²―Ä–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. ¬Ϊ–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ,?βÄî ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä.?βÄî –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β –Ε–Η–≤–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι. –™–¥–Β –Ε–Β, –Ω–Ψ –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α, –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Β―¹―²―¨?¬Μ –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―¹–Β–Φ―¨–Η βÄî –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ–Α―è –Φ–Β―΅―²–Α, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Β―¹―²―¨ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ψ–≤: ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η, –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η. –Γ–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―É―é –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―² –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ: ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö βÄî ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι ―¹―²–Ψ–Μ, ―É –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö βÄî –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –Η–≥―ÄβÄΠ ¬Ϊ–Δ–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä ―É –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ –¥–Β―²―è–Φ ―²–Α–Φ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Β–Φ DVD –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄ –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η,?βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä.?βÄî –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Β―²–Β–Ι –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η―Ö –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–Β―². –û–Ϋ–Η –Ζ–Α–¥–Α―é―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―΄. –€―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β–Φ―¹―è –Η―Ö –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α―²―¨: –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ε–Η―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β¬Μ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―É –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―É―â–Β―Ä–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ–Η―²–Β―²–Α –Η –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ―΄: ¬Ϊ–ü–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Κ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨, ―Ä–Α―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω―΄–Β ―¹–Μ―É―Ö–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―΅―²–Ψ ―è ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η ―Ö–Ψ–Ε―É –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―é –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨¬Μ,?βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –‰―Ä–Η–Ϋ–Α. ¬Ϊ–ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η,?βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä.?βÄî –£ –¦―É–≥–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι, –≤–Ζ―è–≤―à–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –î–Α –Η –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β, –Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Β―²―¨–Η¬Μ. ¬Ϊ–î–≤–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η ―¹ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η βÄî –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―ĬΜ,?βÄî –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è–Β―² –‰―Ä–Η–Ϋ–Α. ¬Ϊ–ë―Ä–Α―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι βÄî –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Μ―΄―²―¨ –Ω–Ψ ―Ä–Β–Κ–Β –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―²―É,?βÄî ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Β―² –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä.?βÄî –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –‰ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –≤―΄―Ä–Α―¹―²―É―² –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β―²–Η. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–≥ –≤–Β–¥–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―É―²–Β–Φ, –Ϋ–Α―à–Α –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Η―²―¨ –Η―Ö, –¥–Α―²―¨ –Η–Φ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, ―ç―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² –≤–Ζ―Ä–Α―¹―²–Η―²―¨ –≤ ―¹–Β–±–Β ―ç―²―É –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, ―²―É―² –Φ―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ϋ–Α –≤―¹–Β –≤–Ψ–Μ―è –ë–Ψ–Ε–Η―è¬Μ. –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α
|
–£ ―Ö–Ψ–¥–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –≤–Η–Ζ–Η―²–Α –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ –ö–Η–Ω―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –ê–≤―²–Ψ–Κ–Β―³–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η: ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Η ―¹―²–Α–≤―Ä–Ψ–Ω–Η–≥–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –€–Α―²–Β―Ä–Η. –Π–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι- –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –ö–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –Γ―²–Α–≤―Ä–Ψ–Ω–Η–≥–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι βÄî –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É βÄ™ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ –Κ―Ä–Β―¹―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² , ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² ―¹–Α–Φ–Ψ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –î–Β–≤―΄ –ö–Η–Κ–Κ–Ψ―¹ –±―΄–Μ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β XI –≤–Β–Κ–Α. –û–±–Η―²–Β–Μ―¨ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²–Β 1318 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α–¥ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β–Φ –Φ–Ψ―Ä―è –Κ –Ζ–Α–Ω–Α–¥―É –Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Δ―Ä–Ψ–Ψ–¥–Ψ―¹. –½–Α –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è, –Β–≥–Ψ –±―Ä–Α―²–Η―è –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Μ–Α ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―é. –Δ―Ä―É–¥―΄ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Η–Ω―Ä–Η–Ψ―²–Ψ–≤. –û–±–Η―²–Β–Μ―¨ –≤–Β–Μ–Α –Η –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –≤―¹–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ–Φ―É –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É ―¹―²–Α–Μ–Α ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–≤ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –û–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ε–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Η–Ω―Ä–Η–Ψ―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –≤ ―¹–Β–±–Β ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Η–Ω―Ä–Η–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –£–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η–Ι –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è ―΅―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄. –€–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ε–Η―²–Β–Μ–Η ―¹–≤―è―²–Ψ –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Β–Β, –Η ―΅―É–¥–Β―¹–Α, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β, –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Β―ë –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Η–Ζ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ψ―² ―¹–Α―Ä–Α–Ϋ―΅–Η –≤ 1760 –≥–Ψ–¥―É. –û–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Α –¥–Μ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Η–Κ–Ψ–Ϋ ―¹ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄ –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β. –£ 1795 –≥–Ψ–¥―É –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ –Β―ë –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Η ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Β–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –ï―¹―²―¨ ―É –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η –Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι. –û–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –≤―¹–Β–Φ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Α–Φ –Η –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –≤ –Φ–Α–Β 1998 –≥–Ψ–¥–Α. –£ –Φ―É–Ζ–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –±–Ψ–≥–Α―²–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―É―²–≤–Α―Ä–Η, ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―Ä―², –≥―Ä–Α–≤―é―Ä, –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η―è –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―É―²–≤–Α―Ä–Η, –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ–±–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄, –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Η, ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Φ―É–Ζ–Β―è –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β, –Ϋ–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Β –Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Η―â–Β–Ϋ―΄, –≤―΄–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ –ö–Η–Ω―Ä–Α –Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤―΄–Κ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Α―É–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É. –£ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β –Β―¹―²―¨ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ ―Ä–Β―¹―²–Α–≤―Ä–Α―Ü–Η–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Β–Ι, –Η–Κ–Ψ–Ϋ –Η –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–≤―è―²―΄–Ϋ―¨, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α―é―² –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι –¥–Μ―è ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Ψ–≥–Α―²–Β–Ι―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η. –£ ―²―Ä–Β―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Η―Ü–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –ö–Η–Ω―Ä–Α –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –€–Α–Κ–Α―Ä–Η―è III βÄ™ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Η―Ä–Η–Κ–Α, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ XX –≤–Β–Κ–Β ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Η –Ω–Ψ –Η–Ζ―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –£–Μ–Α–¥―΄–Κ–Α –€–Α–Κ–Α―Ä–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è. –‰–Ζ ―¹―²–Β–Ϋ –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η –≤―΄―à–Β–Μ –Η –ë–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –ê―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –°―¹―²–Η–Ϋ–Η–Α–Ϋ―΄ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –ö–Η–Ω―Ä–Α –Ξ―Ä–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Ι –ö–Η–Ω―Ä―¹–Κ―É―é –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹ 2006 –≥–Ψ–¥–Α. –Δ–ï–ö–Γ–Δ –‰ –Λ–û–Δ–û –€–‰–¦–ï–ù–Ϊ –Λ–ê–Θ–Γ–Δ–û–£–û–ô  ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Η ―¹―²–Α–≤―Ä–Ψ–Ω–Η–≥–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι –€–Α―²–Β―Ä–Η  –£ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α 
 –Λ–Ψ―²–Ψ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Η―è.―Ä―É  –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α ―É –≤―Ä–Α―² –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η  –¦–Β–Ω–Β―¹―²–Κ–Η ―Ä–Ψ–Ζ –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö―É  –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –≤ –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β  –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α  –ë–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―²–Β!  –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α ―É –≤―Ä–Α―² –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η.JPG –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α ―É –≤―Ä–Α―² –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η  –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α ―É –≤―Ä–Α―² –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η.JPG –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α ―É –≤―Ä–Α―² –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η  –£―Ö–Ψ–¥ –≤ –Ψ–±–Η―²–Β–Μ―¨  –•–Η―²–Β–Μ–Η –ö–Η–Ω―Ä–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Α –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η  –ö–Η–Ω―Ä–Η–Ψ―²―΄ ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Α –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η  –€–Ψ–≥–Η–Μ–Α –€–Α–Κ–Α―Ä–Η―è III  –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –ö–Η–Ω―Ä–Α –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –€–Α–Κ–Α―Ä–Η―è III  –ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―É –ö–Η–Ω―Ä–Α –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É –€–Α–Κ–Α―Ä–Η―é III  –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –≤ –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β  –£ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β  –Λ–Ψ―²–Ψ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Η―è.―Ä―É  –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –≤ –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β  –Δ―É―Ä–Η―¹―²―΄ –Η–Ζ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –ö–Η–Κ–Κ–Ψ―¹ –Η –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α  –Γ―²–Β–Ϋ―΄ –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η  –†–Ψ―¹–Ω–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―é ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â–Β –Φ–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α  –£ –Φ―É–Ζ–Β–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è. –Λ–Ψ―²–Ψ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Η―è.―Ä―É  –‰–Κ–Ψ–Ϋ―΄ 13 –≤–Β–Κ–Α  –î–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β―¹―² ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄  –€―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Α―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Α –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η  –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²–Α–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Φ–Η―Ä–Α  –€–Ψ―â–Β–≤–Η–Κ ―¹ 50-―é –Φ–Ψ―â–Α–Φ–Η ―¹–≤―è―²―΄―Ö 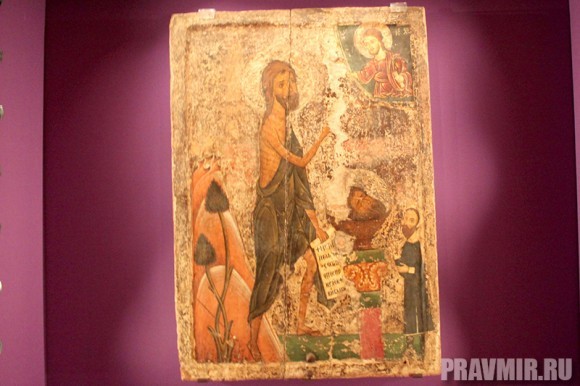 –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η–Κ–Ψ–Ϋ, ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―â–Α―è―¹―è –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Β –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η  –Δ–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –î―Ä–Β–≤–Ϋ–Β―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η  –Γ―²–Β–Ϋ–Α –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η  –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –≤ –ö–Η–Κ–Κ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β
|
–ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –≤–Β–Ζ–¥–Β, –≥–¥–Β –±―΄ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ βÄî –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, βÄî –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤―¹–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥. –·―Ä–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²–Ψ–Φ―É βÄî ―Ö―Ä–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –‰–Μ–Η–Η –≤ 30-–Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―²―΅―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–≠–Γ. –ù–Α –≤―¹–Β–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –½–Ψ–Ϋ―΄ ―Ü–Α―Ä–Η―² ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―Ö–Α –Η –Ζ–Α–Ω―É―¹―²–Β–Ϋ–Η–Β, –Α ―Ö―Ä–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―è –Η –≥–Ψ―Ä―¹―²–Κ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ ―É―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ, –Η –≤ –Ϋ–Β–Φ –Η–¥―É―² ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –£ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ βÄî –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è, ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²―΄ ¬Ϊ–ù–Β―¹–Κ―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–¥–Α¬Μ –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ö–û–Δ–†–ï–¦–ï–£ –Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –®–ê–ü–ö–‰–ù. 
–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –≥–Ψ–¥ 26 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ 4-–Φ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Ψ–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ψ―² –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄. –£–Ψ―² ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―¹―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ―²―Ü–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –·–Κ―É―à–Η–Ϋ–Α ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ω–Α–Ϋ–Η―Ö–Η–¥―΄.
–ê –≤ 1. 23 –Ϋ–Ψ―΅–Η 26 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β, –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―² ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ 21 ―Ä–Α–Ζ –Γ―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η (–ß–ê–≠–Γ) –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ 1970 –≥–Ψ–¥―É –≤ 19 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² ―Ä–Α–Ι―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –ö–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –≥. –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è. –£ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –≥–Ψ–¥―É –≤ –¥–≤―É―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ü―Ä–Η–Ω―è―²―¨, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Ι –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ –ß–ê–≠–Γ βÄî –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Α–≤–Α―Ä–Η–Η ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α 60 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ (–≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Ψ 15 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ). 26 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1977 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Ψ–±–Μ–Ψ–Κ –ß–ê–≠–Γ –¥–Α–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Κ–Η–Μ–Ψ–≤–Α―²―²―΄ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α. –Γ–Ω―É―¹―²―è 19 –Μ–Β―², –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 26 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1986 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –Ϋ–Α 4-–Φ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Ψ–±–Μ–Ψ–Κ–Β, –Ω–Ψ–≤–Μ–Β–Κ―à–Η–Ι –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹ –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–≤ –≤ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É. –£ –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –Ϋ–Α –ß–ê–≠–Γ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 500 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –Γ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –Η –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –ß–ê–≠–Γ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² 30-–Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α―è –Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²―΅―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é. –£–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η. 
–î–Ψ―¹–Κ–Α, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –‰–Μ–Η–Η –ü―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α. ¬Ϊ–½–≤–Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η. –û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―¹―¨ –Η ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É βÄî –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –î―Ä–Β–≤–Μ―è–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ζ–Β–Φ–Μ―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Β ―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ε–Η–Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤–Β–Κ–Α–Φ–Η –Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―¹–Ψ–Κ, ―Ä–Α―¹―¹―΄–Ω–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É ―¹–≤–Β―²―É. –ë–Ψ–Ε–Β, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α–Φ –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ ―ç―²―É –±–Β–¥―É¬Μ 
–£ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ (19 –Κ–Φ –Ψ―² –ß–ê–≠–Γ), –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –ü―Ä–Η–Ω―è―²–Η (3 –Κ–Φ), –Μ―é–¥–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―²―¹―è  image005 –ü―Ä–Η–Ω―è―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –≤ 1970 –≥–Ψ–¥―É –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ ―²―Ä–Β―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ε–Η–≤―à–Η–Φ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –ß–ê–≠–Γ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –≠―²–Α –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω–Ψ–≥―É–±–Η–Μ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥: –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ –≤―΄―¹–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ –Ε–Η―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ 
–Θ–Ε–Β 21 –≥–Ψ–¥, –Κ–Α–Κ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―è–¥–Β―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤ –ü―Ä–Η–Ω―è―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι―à–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ –≤―ä–Β–Ζ–¥: –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α 1986 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Β –≤―΄―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ―΄, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Μ―é–¥–Β–Ι. –¦–Η―à―¨ –Φ–Α―Ä–Ψ–¥–Β―Ä―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Η―¹–Κ–Α―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―² –≤ –½–Ψ–Ϋ―É. –≠―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö –Ζ–Α―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Μ–Β―¹–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Ω―è―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Α―è ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α–ü―É―¹―²―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Α, –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹―à–Η–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Φ, ―¹–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β―¹–Ψ–Φ –Η –Ψ–Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ε―É–Ϋ–≥–Μ―è–Φ–Η –Ω–Μ―é―â–Α. –î–Β―¹―è―²–Κ–Η, ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –Ω―É―¹―²―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Κ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄ ―¹―²–Α–≤–Ϋ―è–Φ–Η, –¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. –ê –Β―¹–Μ–Η ―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Α―Ö–Ϋ―É―²―΄ –Η –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Β–Φ―΄ –Ζ–Η―è―é―² –Ω―É―¹―²–Ψ―²–Ψ–Ι, ―²–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Η–Κ. –€–Α―à–Η–Ϋ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β―², –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β–Φ–Α―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―²–Η―Ü, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Β―â–Β –Ε―É―²―΅–Β. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ βÄî ―ç―²–Ψ –½–Ψ–Ϋ–Α. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Β–Β –Φ–Β―Ä―²–≤–Ψ–Ι, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ-–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²―΅―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ¬Ϊ–Ζ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ. –£―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ ¬Ϊ–Γ―²–Α–Μ–Κ–Β―Ä¬Μ –Δ–Α―Ä–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –£―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Η–Φ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–Μ–Β―¹―¨–Β–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Μ―é–¥–Η, –Ψ–¥–Β―²―΄–Β –≤ –Κ–Α–Φ―É―³–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―É–Ϋ–Η―³–Ψ―Ä–Φ―É. –ù–Α –≥―Ä―É–¥–Η βÄî –Ϋ–Α―à–Η–≤–Κ–Α ―¹ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Η, –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β βÄî –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―²–≤–Ψ―é –¥–Ψ–Μ―é –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η. –≠―²–Η –Μ―é–¥–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –≤ ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Β―Ä–≤–Η―¹–Β¬Μ –Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –¥–Μ―è –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Α―Ä–Κ–Ψ―³–Α–≥–Α. –≠―²–Ψ –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―²―΄, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä―è―é―â–Η–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ–Ϋ –≤ –½–Ψ–Ϋ–Β, ―ç―²–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―â–Η–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–±–Β―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α―Ä–Κ–Ψ―³–Α–≥, ―É–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι 4-–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Ψ–±–Μ–Ψ–Κ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤―΄–≤–Ψ–Ζ―è―â–Β–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄ –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –Γ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Β―Ä–≤–Η―¹–Α¬Μ, –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –Η–Ζ –Δ–Α–≥–Α–Ϋ―Ä–Ψ–≥–Α, –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²―΄ ¬Ϊ–ù–Γ¬Μ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Β –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨. –™―É–Μ―è―è –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –Φ―΄ –Ψ―΅―É―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ü–Α―Ä–Κ–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Η βÄî –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β, –Ω–Ψ―Ä–Ψ―¹―à–Β–Ι ―²―Ä–Α–≤–Ψ–Ι, ―¹―²–Ψ―è―² ―¹–≤–Β–Ε–Β–≤―΄–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄, –ë–Δ–† –Η –¥―Ä―É–≥–Α―è ―¹–Ω–Β―Ü―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α. –€―΄ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Κ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α–Φ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η―é. –£ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Η–Κ: ¬Ϊ–£―΄ ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –¥–Β–Μ–Α–Β―²–Β?! –ù–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥!¬Μ –ö―Ä–Η―΅–Α–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Μ–Β―² –≤ –Κ–Α–Φ―É―³–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Β –Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ. ¬Ϊ–Δ–Α–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ–Ϋ¬Μ, βÄî ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Ϋ–Α–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–≤ –Ϋ–Α ―Ü–Η―³―Ä―΄, –Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―² –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―à―É―²–Κ―É –Η―¹–Ω―É–≥–Α–Μ―¹―è: ¬Ϊ–≠―²–Ψ, ―Ö–Μ–Ψ–Ω―Ü―΄, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ!¬Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ –Κ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β –Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Α–Ι―²–Η ¬Ϊ–≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―è―²–Ϋ–Ψ¬Μ –Β–Φ―É –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨: –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω―è―²–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β, –Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η. 
–¦―é–¥–Η –≤ –Κ–Α–Φ―É―³–Μ―è–Ε–Β βÄî –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―΄, –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä–Η―¹―²―΄, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η βÄî ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² –Ϋ–Α ―¹–Α―Ä–Κ–Ψ―³–Α–≥–Β, ―É–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Β–Φ 4-–Ι –±–Μ–Ψ–Κ –ß–ê–≠–Γ. ¬Ϊ–î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ε–Β –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―ɬΜ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ψ–Ϋ–Η 
–ö–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ–Β–Ϋ 
–ü–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è. –ü―Ä–Ψ―²–Ψ―²–Η–Ω–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―² –ß–ê–≠–Γ, –¥–Β–Ε―É―Ä–Η–≤―à–Η–Ι –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Ι―Ü―΄ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι, –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –½–Ψ–Ϋ–Β, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―é―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―²―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤–Α―Ö―²–Ψ–≤―΄–Ι –Φ–Β―²–Ψ–¥. ¬Ϊ–ù―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ε–Β –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, βÄî ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ψ–Ϋ–Η. βÄî –î–Α –Η –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄ ―²―É―² –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β, ―΅–Β–Φ ―¹ ―²–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ζ–Ψ–Ϋ―΄¬Μ. 26 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ―¹―è 21 –≥–Ψ–¥ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹―²–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Ψ–≤ –±–Β–¥―΄, ―É–Ε–Α―¹–Α, –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄. –ù–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 26 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1986 –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä 4-–≥–Ψ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Ψ–±–Μ–Ψ–Κ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―²―΄―¹―è―΅ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α ¬Ϊ–¥–Ψ¬Μ –Η ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹–Μ–Β¬Μ. –‰ ―ç―²–Α –±–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―è–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ―΅―²–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–¥, –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Φ–Η–Ϋ―É―²―É ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²: ¬Ϊ–Θ―²―Ä–Ψ–Φ 27-–≥–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–¥–Β–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–Ε―É ―è –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Α, –Α –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Μ―é–¥–Η –≤ ―Ö–Η–Φ–Ζ–Α―â–Η―²–ΒβÄΠ¬Μ βÄî ¬Ϊ–î–Α –Ϋ–Β―², –≤ –Ω–Ψ–Μ–¥–Β–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –Η―Ö –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Ζ–Μ–Η, ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Ϋ–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ, –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η!¬Μ –‰ ―²–Α–Κ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è–Ϋ–Β –Η –Ω―Ä–Η–Ω―è―²―è–Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α ―¹–Ϋ–Η―²―¹―è –Η–Φ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –≥–Ψ–¥―΄, –Α –½–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Β―² –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Η―Ö. ¬Ϊ–€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä–Η–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –≤–Ζ―Ä―΄–≤, βÄî –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Κ–Η–Β–≤–Μ―è–Ϋ–Η–Ϋ –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ. βÄî –•–Η–Μ–Η –Φ―΄ –≤ –ü―Ä–Η–Ω―è―²–Η: ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ―² ―Ä–Β–±―è―² –Ω―Ä–Ψ –Α–≤–Α―Ä–Η―é, ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –≤–Ζ―è―²―¨ –≤ –≥–Α―Ä–Α–Ε–Β –Φ–Ψ–Ω–Β–¥ –Η –Ω–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ –Κ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄî –Φ―΄ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –≥–Α―Ä–Α–Ε–Α: –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Μ–Ψ, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ. –€–Ψ–Ε–Β―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η –Ε–Η–≤―É –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―¹ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―², –Α ―è –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―é –Η –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨, –Η –≤ –ü―Ä–Η–Ω―è―²―¨. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É? –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―²―è–Ϋ–Β―², –Η –≤―¹–Β. –€–Ϋ–Β –≤―¹–Β ―ç―²–Η –≥–Ψ–¥―΄ –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―¹–Ϋ–Η―²―¹―è –ü―Ä–Η–Ω―è―²―¨! –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Η¬Μ. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤ –ü―Ä–Η–Ω―è―²–Η –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ω―É―¹―²–Ψ. –†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ–Ϋ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤―΄―¹–Ψ–Κ, –Ε–Η―²―¨ ―²–Α–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ë–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―ç―²–Α–Ε–Κ–Η ―¹―²–Ψ―è―² –Ω―É―¹―²―΄–Φ–Η, ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ζ–Α―Ä–Α―¹―²–Α―é―² –Μ–Β―¹–Ψ–Φ. –£ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α―Ö –≤–Α–Μ―è―é―²―¹―è ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Β–±–Β–Μ―¨, –Ψ–±―Ä―΄–≤–Κ–Η –Ψ–±–Ψ–Β–≤, –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α, –Ψ–±―É–≤―¨. –ü–Ψ–Μ ―É―¹―΄–Ω–Α–Ϋ –±–Η―²―΄–Φ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² 20-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Φ–Α―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤, ―ç―²–Η –¥–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –Ε–Η–Μ―΄–Φ–Η: ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è. C–Α–Φ–Ψ―¹–Β–Μ―΄–Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β –Ϋ–Α―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―² –≤―¹–Β, –Ϋ–Α―à –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Β―Ä–≤–Η―¹–Α¬Μ –ü–Β―²―Ä–Ψ, ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β, ―¹ –Β–≥–Ψ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Β–Μ–Ψ–≤: ¬Ϊ–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –¥–Α–Ε–Β –≤ –¥–Ϋ–Η –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Ι ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –¥―Ä–Α–Ω–Α–Μ–Η –Ψ―²―¹―é–¥–Α, –Ϋ–Β ―É–Β―Ö–Α–Μ–Η. –£–Ψ―² –Κ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Η –Η–¥–Β–Φ!¬Μ –ü–Ψ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ ―É–Μ–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –ü–Β―²―Ä–Ψ –≤–Β–¥–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –≤ –≥–Μ―É–±―¨ –Κ–≤–Α―Ä―²–Α–Μ–Ψ–≤. –Γ―É–Φ–Β―Ä–Κ–Η ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―²―¨–Φ―É, –Ϋ–Α ―΅–Α―¹–Α―Ö –¥–Β–≤―è―²―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β –Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι ―΅–Α―¹, 20.00, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–±―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι―à–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ―΄. –ù–Ψ ―²–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ, ―²–Ψ –Μ–Η –ü–Β―²―Ä–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –≥–¥–Β –Η–¥―²–Η, βÄî –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ–Α–Μ–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Ψ―΅–Η –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Μ―¨―è βÄî –Κ–Ψ–Β-–≥–¥–Β –≤ –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Η―² ―¹–≤–Β―². –ï―¹―²―¨ ―²―É―², –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―è―²–Η―ç―²–Α–Ε–Β–Κ, –≥–¥–Β –Ε–Η–≤―É―² –≤–Α―Ö―²–Ψ–≤–Η–Κ–Η, βÄî ―²–Α–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Ϋ–Ψ –Η ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ. –ù–Ψ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ –≤–Β―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι, ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Ι. –î–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ ―΅–Β―Ä―²–Β –Ψ―¹–Β–¥–Μ–Ψ―¹―²–Η, –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Β–≤―Ä–Β–Β–≤. –£ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―Ö–Α―¹–Η–¥–Η–Ζ–Φ–Α –ù–Α―É–Φ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –£ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Β–≤―Ä–Β–Β–≤ –±―΄–Μ–Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η. –‰ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –£–Η―²–Β–±―¹–Κ ―¹ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ –®–Α–≥–Α–Μ–Α: –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –±–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ –≤–Β―²–Ψ–Κ ―¹–Α―Ä–Α–Ι―΅–Η–Κ–ΗβÄΠ –ê ―¹–≤–Β―² –≤ –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Α―Ö βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Β–Μ―΄, –Μ―é–¥–Η, –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –≤―΄–±―Ä–Α–≤―à–Η–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―è―²–Β–Ϋ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―¹ –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –£ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η-–Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Α–Φ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ ―²–Β―Ä―è―²―¨. –‰―Ö ―²―É―² –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –¥–≤–Α-―²―Ä–Η. –ü–Β―²―Ä–Ψ –≤―¹–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―², –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β ―¹ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β –≤–Α―Ö―²–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι. ¬Ϊ–£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, ―è –Μ―é–±–Μ―é –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨, –≤–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Β―¹―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, –Α –Ζ–Α –½–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―²¬Μ, βÄî –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² –Ψ–Ϋ. –Γ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―΅–Α―¹―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―²―è –ü–Β―²―Ä–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Α―Ö–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Α–±–Ψ―Ä, –Ψ―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―² –Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η –Κ–Α–Μ–Η―²–Κ―É, ―¹―²―É―΅–Η―² –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–Γ–Β–Φ–Β–Ϋ―΄―΅, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Ι!¬Μ –Ξ–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β –¥―Ä―è―Ö–Μ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –≤ –¥–Ψ–Φ: ¬Ϊ–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ―΄―΅, βÄî –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–Ϋ, βÄî –Α ―Ü–Β –Ε–Η–Ϋ–Κ–Α –Φ–Ψ―è, –±–Α–±–Κ–Α –ù–Α―²–Α–Μ–Κ–Α¬Μ. –ë–Α–±―É―à–Κ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―¹–Ω―É–≥–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―É―é ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―é –ü–Β―²―Ä–Α, ―É–Μ―΄–±–Α–Β―²―¹―è –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–Ι―²–Η. –£ –¥–Ψ–Φ–Β –≤―¹–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β―²―Ö–Ψ –Η ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨ –Ζ–Α–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―΄–≤–Α–Β―² ―É ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Ψ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―É–≥–Μ―É βÄî –Ω–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Β, –Η –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―É―é―²–Α. –ù–Α –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤ –≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η βÄî –≤―¹–Β –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, βÄî –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β ―¹–≤–Β–Ε–Η–Β –±―É–Μ–Κ–Η, –Η―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Α–±–Κ–Ψ–Ι –ù–Α―²–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι. 
–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –±–Α–±–Α –ù–Α―²–Α–Μ–Κ–Α βÄî –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è–Ϋ–Β. ¬Ϊ–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, βÄî ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η–Μ ―è, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ: –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―΅―É–Ε–±–Η–Ϋ–Β. –Δ–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β. –‰ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ε–Η–≤–Β–Φ¬Μ –ü–Ψ―¹–Μ–Β –ö–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄ –Η–Φ –¥–Α–Μ–Η –Ε–Η–Μ―¨–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η–≤ ―²―É–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É –¥–Ϋ–Β–Ι, –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ―΄―΅ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ: –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ―É. –‰ –Ψ–Ϋ–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨. βÄî –ö–Α–Κ –Ε–Β –≤―΄ –Ε–Η–Μ–Η? –ù–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ? βÄî –ê ―²–Α–Κ –≤–Ψ―² –Η –Ε–Η–Μ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Φ―΄ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Κ–Α―Ä―²–Ψ―à–Κ―É ―¹–Α–Ε–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ–Φ–Η–¥–Ψ―Ä―΄. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Η. –î–Α –Η –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ: –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ –Ε–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ε–Η―²―¨, βÄî –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ―΄―΅. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―É―¹―²–Β–Μ, –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Φ–Α―è –≤―΄–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –¥–Β―²–Β–Ι, ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ. –£–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ–Η –Μ―é–¥―è–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Ψ–Φ–Α –Ϋ–Α –¥–≤–Α-―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –±―Ä–Α–Μ–Η ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Η ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –±–Β–Μ―¨―è. –ï–¥–≤–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–Μ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Α―Ä–Ψ–¥–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –¥–Ψ–±―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Α ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ¬Ϊ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ―è¬Μ. ¬Ϊ–ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ―΄―΅, βÄî –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Ϋ–Η ―è –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ ―¹ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η–Β–Ι. –î–Α-–¥–Α, –≤―΄–Ι–¥―É, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, ―¹ ―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―²–Α–Κ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é: –Α –Ϋ―É, –Φ–Ψ–Μ, –Μ–Ψ–Ε–Η –≤–Ζ–Α–¥ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –≤–Ζ―è–Μ, –Α –Ϋ–Β ―²–Ψ ―è ―²–Β–±–Β –≤―¹―é –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–±–Η–≤–Α―é!¬Μ –•–Η–≤―É―² ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Β–Μ―΄ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é –Η ―¹ –Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―É―é –≥―Ä―è–¥–Κ―É, ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–≤–Α―é―²¬Μ –Ζ–Β–Φ–Μ―é –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Ω–Α―é―² –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β. –ï―â–Β –Μ–Ψ–≤―è―² –Η –Β–¥―è―² ―Ä―΄–±―É –Η–Ζ ―Ä–Β–Κ–Η –ü―Ä–Η–Ω―è―²―¨, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Η―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥. –Θ–≤–Β―Ä―è―é―², ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η –≤ ―Ä―΄–±–Β –¥–Α–Ε–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –≤ –Κ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –ö–Η–Β–≤–Β –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Α―Ä–Β. –ï–¥―è―² –Η –≥―Ä–Η–±―΄ –Η–Ζ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―¹–Ψ–≤. –ù–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Β–Μ―΄–Β: –Ψ–Ϋ–Η –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α―é―² ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η. ¬Ϊ–†–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β –±–Ψ–Η–Φ―¹―è, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Β–Μ―΄, βÄî –≤–Β–¥―¨ –Ε–Η–≤―΄ –Ε–Β –Φ―΄ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Η ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α! –ê ―²–Β, –Κ―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É–Β―Ö–Α–Μ –Η–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―², βÄî –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹? –î–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ, –Α –Φ―΄ ―²―É―² –Ε–Η–Μ–Η, –Ε–Η–≤–Β–Φ –Η –±―É–¥–Β–Φ –Ε–Η―²―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ―² ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ!¬Μ –Γ–Ψ–Ζ–Η–Ε–¥―É –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –€–Ψ―é –Γ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β ―É –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β, –Ω―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ –≤–Α―Ö―²–Ψ–≤–Η–Κ –Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ ―¹―é–¥–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΅–Β―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Κ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ö―Ä–Α–Φ―É. –£–Α–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É―². –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –‰–Μ–Η–Η βÄî ―ç―²–Ψ, –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ε–Η–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹―é 30-–Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―É―é –Ζ–Ψ–Ϋ―É –Ψ―²―΅―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –Θ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Β–Μ–Ψ–≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Α –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Α–¥–Β –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α βÄî –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±―É–Κ–≤―΄. –ï―¹–Μ–Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ –Η –≤―¹–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―É–Ϋ–Κ―²―΄ –½–Ψ–Ϋ―΄ ―΅–Β–Φ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α―é―²―¹―è –≤ –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹–Μ–Η –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è, ―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Α–≤–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ ―Ü–≤–Β―²―É―² ―Ü–≤–Β―²―΄, –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ―΄–Ι –≥–Α–Ζ–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –¥–Μ―è –Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ. –½–¥–Β―¹―¨ ―¹–≤–Β–Ε–Β–≤―΄–±–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –Η ―¹–Η―è―é―â–Η–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ―É–Ω–Ψ–Μ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Η –Ω–Ψ –Ω―É―¹―²–Ψ–Φ―É –Η –±–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―é ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―à―¨ ―¹–Β–±―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ―΄ –Κ–Ϋ―è–Ζ―è –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –≤ ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –Γ–Ψ―³–Η–Η. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ω―²–Η―Ü―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ―é―² –≥―Ä–Ψ–Φ―΅–Β. –ê –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―Ö―Ä–Α–Φ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Α―²―¨ –Ψ–±―â–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε―É: –Ζ–Α–Κ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Κ–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Κ―É–Ω–Ψ–Μ–Α, –Ψ–±–Μ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Β–Ϋ―΄. –‰ ―²–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―É –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –·–Κ―É―à–Η–Ϋ–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –·–Κ―É―à–Η–Ϋ βÄî –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α, –Α ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Α–≥―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ψ–≤. ¬Ϊ–ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β, βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι, βÄî ―è –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è–Ϋ–Η–Ϋ, –Η –Ε–Β–Ϋ–Α –Φ–Ψ―è, –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α –¦―é–±–Ψ–≤―¨, ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–¥–Β―à–Ϋ―è―è. –€―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α–≤–Α―Ä–Η–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―É–Β―Ö–Α–Μ–Η, –Ϋ–Α–Φ –≤ –ö–Η–Β–≤–Β –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –¥–Α–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η: –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Κ–Η –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α. –ê ―Ö―Ä–Α–Φ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α–Φ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥: –Φ―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Η –Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨, –Η –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Η –Φ–Α–Φ–Α –Φ–Ψ―è, –Η –±–Α–±–Κ–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –Μ―é–±–Η–Φ –Φ―΄ –Β–≥–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨¬Μ.
–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–≤ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –·–Κ―É―à–Η–Ϋ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è: –≥–Μ–Α–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β –≤–Ψ―²-–≤–Ψ―² ―É–Ω–Α–¥–Β―², –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Ψ –Ψ―²–Μ–Ψ–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –Η –≤―Ä–Α―¹―²–Α–Β―² –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ: –Ϋ–Α–¥–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –ü–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η―é –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ―²―΅―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è: –¥–Α–Ι―²–Β –¥–Ψ―¹–Ψ–Κ, –¥–Α–Ι―²–Β –Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ, –¥–Α–Ι―²–Β –Κ―Ä–Α―¹–Κ―É. ¬Ϊ–Δ–Α–Φ ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Η―¹―¨: –Α ―²―΄ –Κ―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι? βÄî –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι. βÄî –· –Η–Φ: –¥–Α ―è –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Η–Ϋ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α! –ê –Ψ–Ϋ–Η –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: ―à–Β–Μ –±―΄ ―²―΄ –Ψ―²―¹―é–¥–Α. –· –Η –Ω–Ψ―à–Β–Μ βÄî –Κ –≤–Μ–Α–¥―΄–Κ–Β –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ―É¬Μ. –£–Η–Κ–Α―Ä–Η–Ι –ö–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –ü–Β―Ä–Β―è―¹–Μ–Α–≤-–Ξ–Φ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ. ¬Ϊ–ê ―è –Β–Φ―É –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é: –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―è, –Α ―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ –Μ–Η―Ü–Ψ –Ϋ–Β–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –≤―¹–Β –≥–Ψ–Ϋ―è―é―²? –£–Μ–Α–¥―΄–Κ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: –±―É–¥–Β–Φ –Η―¹–Κ–Α―²―¨. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Β―¹―è―Ü, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Μ–Α–¥―΄–Κ–Α –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: –Α ―²―΄ –≤–Β–¥―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η–Η ―É―΅–Η―à―¨―¹―è? –· ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η –≤–Ω―Ä–Α–≤–¥―É ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η–Η: –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²–Α–Κ, –¥–Μ―è –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ê –Ψ–Ϋ: –≤–Ψ―² ―²―΄ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β, –Α ―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―²―É–¥–Α –Β―Ö–Α―²―¨, –±–Ψ―è―²―¹―è¬Μ. –Δ–Α–Κ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –·–Κ―É―à–Η–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ.
–ù–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ–Β–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –û―²–Β―Ü –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―â–Α–Β―² –≤ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―É―é ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―é (–≤–Β–¥―¨ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ βÄî –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Ψ–≤!) ―¹ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é: ―¹ –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ü–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―É–Μ―΄–±–Κ–Α, –Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ! –£―¹–Β ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η βÄî –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β, ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β, –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β βÄî –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―é –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η. ¬Ϊ–ö―É–Ω–Ψ–Μ –≤―΄―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ, βÄî ―¹ –Ϋ–Β―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―² –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α –¦―é–±–Ψ–≤―¨. βÄî –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Ψ―¹―²–Κ–Η, –Ψ–±–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤–Β―Ä–Β–≤–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Η –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ¬Μ. –†–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Φ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Α–Φ –Ψ―²–Β―Ü-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨. –Θ–Κ―Ä–Α―à–Α–Μ ―Ö―Ä–Α–Φ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Α–Φ: –Ω―Ä–Ψ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―à―¨ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β βÄî –Ω―Ä–Ψ –Ω―Ä–Η―΅―É–¥–Μ–Η–≤―΄–Β –Μ–Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ü–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α –¥–≤–Β―Ä―è―Ö, –Ω―Ä–Ψ –≥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Η―Ü―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è―²―¹―è ―΅–Α―¹―²–Η―Ü―΄ ―¹–≤―è―²―΄―Ö –Φ–Ψ―â–Β–Ι, βÄî –Ϋ–Α –≤―¹–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―²: –Α ―ç―²–Ψ –±–Α―²―é―à–Κ–Α ―¹–Α–Φ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ―²―Ü―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α. –û–Ϋ–Α –Η –Ζ–Α ―è―â–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η –Ϋ–Α –Κ–Μ–Η―Ä–Ψ―¹–Β, –Η –≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Β, –≥–¥–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –≥–Ψ―¹―²–Η –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–ù–Γ¬Μ –Η–Μ–Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Β–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ, –Η –≤ ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ βÄî –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ε–Α–Μ–Β―²―¨, βÄî ―ç―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥. –ù–Ψ –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Β–Φ―É –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β, –±―΄―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ? –Γ–Α–Φ–Ψ―¹–Β–Μ―΄ βÄî ―¹―²–Α―Ä―΄ –Η –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄, –≤–Α―Ö―²–Ψ–≤–Η–Κ–Η βÄî –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι. –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι, –Β―¹―²―¨ –Η –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β. –ù–Α –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―²―É―Ä–≥–Η–Η –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω―è―²―¨-―à–Β―¹―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η βÄî –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –£ ―²–Α–Κ–Η–Β –¥–Ϋ–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, –Κ–Α–Κ –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è ―¹―É–±–±–Ψ―²–Α, –ü–Α―¹―Ö–Α –Η –†–Α–¥–Ψ–Ϋ–Η―Ü–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ¬Ϊ–™―Ä–Ψ–±–Κ–Η¬Μ, –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Β―² –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―²―Ü―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ: –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ βÄî –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ê ―Ä–Α–±–Ψ―² –≤ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: –Η –Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η, –Η –Κ―Ä―΄―à―É –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄―²―¨, –Η –≤―΄―Ä―É–±–Η―²―¨ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–Μ–Β―¹―¨–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ζ–Α –≥–Ψ–¥―΄, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ö–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄, –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä. –Δ―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –Ζ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Α―Ä―Ö–Η–Β―Ä–Β―é: –Κ–Α–Κ –±―΄―²―¨? –‰ –≤–Μ–Α–¥―΄–Κ–Α –€–Η―²―Ä–Ψ―³–Α–Ϋ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Μ –Ψ―²―Ü–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―²―¨ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Β–Ω–Α―Ä―Ö–Η―è–Φ ―¹ ―΅―²–Η–Φ–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η βÄî –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹–≤―². –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Η―¹–Η, ―ç―²–Α –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α ―É–Ε–Β –≤ XVIII –≤–Β–Κ–Β –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Α–Κ ―΅―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è: –Ψ―² –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ ―¹–Μ―É―΅–Α–Η –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –£–Ψ―² ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α–Β―² –Ψ―²–Β―Ü –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α–Φ. –£―¹–Β –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–¥―É―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η: ¬Ϊ–€―΄ ―²–Α–Κ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ: ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ!¬Μ βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α –¦―é–±–Ψ–≤―¨.
 –ê –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É, –Ϋ–Α –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ―é―é –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ―É –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Α―Ä–Η–Η, –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ö―Ä–Α–Φ―É –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Φ–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Φ –ö–Η–Β–≤―¹–Κ–Η–Φ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–≤―è―²―΄–Ϋ―è: –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α –Γ–Ω–Α―¹ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι βÄî –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Η–Κ–Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–Φ –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ . –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹, –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü–Α, –Α―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ, –¥―É―à–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –≤ –ö–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Β, ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≥–Α–Ζ–Α―Ö, –≤―Ä–Α―΅–Η –Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η –≤ –±–Β–Μ―΄―Ö ―Ö–Α–Μ–Α―²–Α―Ö βÄî –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Β, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ¬Ϊ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β¬Μ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―², –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Α―è ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è. –û–±―Ä–Α–Ζ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –≤ 2003 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―é –ë–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Φ–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α –ö–Η–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α. –£ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ψ―²–Β―Ü –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ω―É―²―¨ –Ψ―² –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è –¥–Ψ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è: –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–Φ ―à–Β–Μ, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É―è –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β, ―¹–≤. –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. ¬Ϊ–ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ ―²–Α–Κ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ζ–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ―É–Μ –Κ–Α–Ε–¥―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é, –Μ―é–¥–Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤–Β―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É¬Μ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ―²–Β―Ü –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι. ¬Ϊ–ë–Α―²―é―à–Κ–Α, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –≤–Α―¹ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ?¬Μ βÄî ¬Ϊ–½–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ, ―²―Ä–Η ―¹―²–Α―Ä–Η―΅–Κ–Α. –ê –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ψ―â―É―â–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η! –£–Β–¥―¨ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ βÄî ―ç―²–Ψ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Κ –±―΄ –≤―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β!¬Μ –®―²–Α―² –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ϋ–Β–≤–Β–Μ–Η–Κ: –±–Α―²―é―à–Κ–Α, –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α, –¥–≤–Α –Η―¹―²–Ψ–Ω–Ϋ–Η–Κ–Α –ΗβÄΠ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ¬Ϊ―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ä―¨ βÄî –≤–Α―Ö―²–Ψ–≤–Η–Κ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Β―² –Η–Ζ –ö–Η–Β–≤–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Α―Ö―²―΄, –Ϋ–Ψ –Η –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α 26 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è, ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ 1.23, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―²―¹―è –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Α –ö–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄, –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―² –≤ –≤–Η―¹―è―â–Η–Ι –Ϋ–Α ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Β ―É –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²–Α –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ. –½–≤–Ψ–Ϋ–Η―² ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹ –Α–≤–Α―Ä–Η–Η. –‰ ―ç―²–Ψ―² –Ζ–≤–Ψ–Ϋ –Ζ–Α―è–≤–Μ―è–Β―² –Ϋ–Α –≤―¹―é –½–Ψ–Ϋ―É: –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β –Β―¹―²―¨ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―é―² –≤―Ä–Α―²–Α –Α–¥–Α! –£ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²―¹―è –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¦–Η―²―É―Ä–≥–Η―è. –‰ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β –Β―¹―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Μ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―É –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α, ―É –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è –Β―¹―²―¨ –±―É–¥―É―â–Β–Β. –£–Β―Ä–Ϋ–Β―²―¹―è –Μ–Η –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄî –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ: –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ –≤―¹―é –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―è―²–Β–Ϋ βÄî –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ–Β –±―É–¥–Β―², –≤ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Η. –ü–Ψ–Κ–Α ―Ö―Ä–Α–Φ –±―É–¥–Β―² βÄî –±―É–¥–Β―² –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. 
–£ –¥–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ―΄ –Α–≤–Α―Ä–Η–Η –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–≠–Γ –Φ–Ψ–Μ–Β–±–Β–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ù–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Β–±–Ϋ―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –£ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Μ–Η―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Η –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―² ¬Ϊ–ù–Γ¬Μ –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ö–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Β–≤ –≠–Ω–Η–Μ–Ψ–≥ 
–ù–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –Α―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –≤ ―¹. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ, –≤ ―²―Ä–Β―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –ß–ê–≠–Γ, –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² 4-–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η. –ù–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ ―Ö―Ä–Α–Φ–Α, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ βÄî ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β 
–ü―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤―É―è –Ω–Ψ –½–Ψ–Ϋ–Β, –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é –≤ ―²―Ä–Β―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –£ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Α―Ä―Ö–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≥–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α. –ù–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β, –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Β―² –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ―΄–Ι –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―Ä–Α–Ζ–Α. –£ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―Ä–Α–¥–Η–Α―Ü–Η―è –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―² ―¹ ―É–Μ–Η―Ü―΄ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ω―΄–Μ―¨, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä–Α –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η –Ψ―² –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―΄. –£–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ε–Β ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –¥–Ψ–Ζ–Η–Φ–Β―²―Ä –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ¬Μ. –ü–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –¥–Μ―è ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β―² –Φ–Β―¹―²–Α! –ü―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ –≤–Α―à–Β–Φ―É –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―é –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―³–Ψ―²–Ψ―Ä–≥–Α―³–Η–Ι, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η –Η–Ζ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–±―΄–Μ―è, –ü―Ä–Η–Ω―è―²–Η –Η –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι  
–£ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –ê―Ä―Ö–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≥–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α (―¹. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β) 

–£ –ü―Ä–Η–Ω―è―²–ΗβÄΠ  image028 βÄΠ―É–Μ–Η―Ü―΄ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ä–Ψ―â–Η 




 image022 
–Δ–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Β–Ϋ―¹―²–≤―É―é―² –Ζ–≤–Β―Ä–Η. –û–Ϋ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―Ö–Ψ–¥―è―², –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±–Ψ―è―¹―¨ 


|
16 –Η―é–Ϋ―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―â–Β–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Π–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Η–Ζ –Θ–≥–Μ–Η―΅–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –ù–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, ―΅―²–Ψ –≤ XV –≤–Β–Κ–Β –Θ–≥–Μ–Η―΅ –±―΄–Μ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι ―É–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ϋ―è–Ε–Β―¹―²–≤–Α. –ù–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –≤―¹–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β, ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η: –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è ―Ä–Ψ–¥–Α –†―é―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Ι. –ê –Ζ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Β –Γ–Φ―É―²–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―é –≥–Η–±–Β–Μ–Η.  –ù–Α –Φ–Β―¹―²–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Α–Β―²―¹―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–≤–Η¬Μ. –ö―Ä–Ψ–≤―¨ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―Ü–≤–Β―² ―¹―²–Β–Ϋ. –Ξ―Ä–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ¬Μ. –‰ ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨¬Μ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –±―É–¥―²–Ψ –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Α–Β―² –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ (―²–Α–Κ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ ―Ö―Ä–Α–Φ). –Γ–Φ–Β―Ä―²―¨ ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –£–Ψ―² –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α: –Φ–Α–Μ–Α―è ―Ä–Β–Κ–Α –≤–Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é, –Ω―Ä–Η –≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β―Ä–Β–≥ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É–Β―² –Ψ―¹―²―Ä―΄–Ι –Φ―΄―¹, –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Α–Β―²―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι βÄî –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Β –Κ–Ϋ―è–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Α–Μ–Α―²―΄. –ü―Ä–Η –≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É―΅―¨―è –ö–Α–Φ–Β–Ϋ―Ü–Α –≤ –£–Ψ–Μ–≥―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É–≥–Μ–Η―΅―¹–Κ–Α―è ―Ü–Η―²–Α–¥–Β–Μ―¨ ―¹ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –±–Α―à–Ϋ―è–Φ–Η. –½–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β, –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Β ―Ä–Β–Κ, 15 –Φ–Α―è 1591 –≥–Ψ–¥–Α ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅ –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι, –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ ―Ü–Α―Ä―è –‰–≤–Α–Ϋ–Α –™―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –€–Α―Ä–Η–Η –ù–Α–≥–Ψ–Ι, ―É–Φ–Β―Ä –Ω―Ä–Η ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. –ù–Α–≥–Η–Β βÄî –Φ–Α―²―¨ ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –€–Α―Ä–Η―è –Η –Β–Β ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η βÄî –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α ―É–±–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –±–Ψ―è―Ä–Η–Ϋ–Α –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –™–Ψ–¥―É–Ϋ–Ψ–≤–Α. –£ –Θ–≥–Μ–Η―΅–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η–Β, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η ―É–±–Η―²―΄ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä–Β–≤ –¥―¨―è–Κ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ë–Η―²―è–≥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η –Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –¥–Ϋ―è –≤ –Θ–≥–Μ–Η―΅ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –±–Ψ―è―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –®―É–Ι―¹–Κ–Η–Φ, –Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Η–Φ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–Φ –ö–Μ–Β―à–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ –Η –¥―É–Φ–Ϋ―΄–Φ –¥―¨―è–Κ–Ψ–Φ –ï–Μ–Η–Ζ–Α―Ä–Ψ–Φ –£―΄–Μ―É–Ζ–≥–Η–Ϋ―΄–Φ. –£―΄–≤–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ βÄî –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι ―É–±–Η–Μ―¹―è ―¹–Α–Φ, –Η–≥―Ä–Α―è ―¹ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –≤ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–Ε–Η―΅–Κ–Η¬Μ. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ –Ω–Α–¥―É―΅–Β–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨―é (―ç–Ω–Η–Μ–Β–Ω―¹–Η–Β–Ι), –Η, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è, –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–≥―Ä―΄ –≤ ¬Ϊ―²―΄―΅–Κ―É¬Μ (―². –Β. –≤ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–Ε–Η―΅–Κ–Η¬Μ): –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ ―É–Ω–Α–Μ, –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Β–Ζ–Α–≤ ―¹–Β–±–Β –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―É–≥–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Ψ–±―΄―¹–Κ–Α¬Μ –®―É–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η–Μ 2 –Η―é–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤ –ö―Ä–Β–Φ–Μ–Β. –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –‰–Ψ–≤ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―¹ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ù–Α–≥–Η―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η–Β –≤ –Θ–≥–Μ–Η―΅–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö ¬Ϊ–Φ―É–Ε–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ-―É–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Η ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Α–Φ, –€–Α―Ä–Η―é –ù–Α–≥―É―é –Ϋ–Α―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Η–≥–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤–Ψ –Η ―¹–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –ë–Β–Μ–Ψ–Ψ–Ζ–Β―Ä–Ψ. –ö–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η –≤ –Θ–≥–Μ–Η―΅–Β (–≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±–Η–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α–±–Α―², –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α―è –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η–Β) ―¹–Ϋ―è–Μ–Η, –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η –Β–Φ―É ¬Ϊ―è–Ζ―΄–Κ¬Μ, ―É―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Η ¬Ϊ―É―Ö–Ψ¬Μ –Η ―¹–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η –≤ –Δ–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―¹–Κ. –Π–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –≤ –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β –Θ–≥–Μ–Η―΅–Α (–¥–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨). –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–≤–Η –ù–Α –Φ–Β―¹―²–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Α–Β―²―¹―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–≤–Η¬Μ. –ï–Β –Α–Μ―²–Α―Ä―¨ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Α–¥ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α. –ö―Ä–Ψ–≤―¨ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―Ü–≤–Β―² ―¹―²–Β–Ϋ. –Γ–Α–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Η–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Ψ–¥―΅–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ¬Μ –ï―¹–Μ–Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹ ―Ä–Β–Κ–Η, ―²–Ψ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –±―É–¥―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Α–Β―² –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ (―²–Α–Κ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Β–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β). –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨¬Μ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι. –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Β ―É–Ζ–Ψ―Ä–Ψ―΅―¨–Β –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―â–Β: –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Ι –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Κ–Ψ―Ä, –±–Β–Μ―΄–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Β, ―à–Α―²―Ä–Ψ–≤–Α―è –Φ–Α―΅―²–Α-–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è, ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω―è―²–Η–≥–Μ–Α–≤–Η–Β –Η –≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Β –Κ―É–Ω–Ψ–Μ–Α ―¹–Ψ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α–Φ–Η. –£―¹–Β ―è―Ä–Κ–Ψ –Η –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ βÄî –Ω―Ä–Η ―΅–Β–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α? –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Φ―΄ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Η―²–≤–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β–Φ –≤ ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨, –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –≤ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Η–Κ –Η –≤–Η–¥–Η–Φ ―Ä–Ψ―¹–Ω–Η―¹–Η. –£―¹―è –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è ―¹―²–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ. –Π–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅ –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ―É –Η–Ζ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α, –Κ–Α–Κ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –¥–≤–Ψ–Β –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ü–Α―Ä–Η―Ü–Α ―¹ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Ψ–Ι –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Α ―²–Β–Μ–Ψ –Φ–Β―Ä―²–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―É–±–Η–Ι―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Η ―É–±–Η―²―΄ ¬Ϊ–Κ–Α–Φ–Β–Ϋ―¨―è–Φ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ ―É–≥–Μ–Η―Ü–Κ–Η–Φ¬Μ. –£ –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―¹―²–Β–Ϋ―΄ βÄî ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è ―²–Β–Μ–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ  –Ξ―Ä–Α–Φ ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ω―Ä–Η 1-–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β –ù–Β–Φ–Ψ–Ι ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨ –Γ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ―² ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Β –Κ–Ϋ―è–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Α–Μ–Α―²―΄ (–Η―Ö –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―² –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É XV –≤–Β–Κ–Α), –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β XVI ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Η –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä―΄―¹–Κ–Α –™―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Α–Μ–Α―²―΄ ―ç―²–Η βÄî –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨ ―²–Β―Ö –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨, ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―â–Η–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ–Κ. –î–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –¥–Ψ–Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Η –Ω–Α–Μ–Α―²―΄ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –€―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Μ–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ –Κ–Ϋ―è–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ (–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Α III) –Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―¹ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ―è βÄî –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Α–Μ–Α―²–Α–Φ–Η –Η –Γ–Ω–Α―¹–Ψ-–ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –£ ―ç―²–Η―Ö –Ω–Α–Μ–Α―²–Α―Ö –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ –Κ–Ϋ―è–Ζ―¨; –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ψ–≤, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Η―Ö –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Α: –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β (–≤ ―²―Ä–Η ―ç―²–Α–Ε–Α), –Φ–Ψ–Ϋ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –ü–Α–Μ–Α―²―΄ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―²―¹―è –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η―¹–Κ–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä ―¹ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η (–Η―Ö ―É–Κ―Ä–Α―à–Α―é―² ―²–Β―Ä―Ä–Α–Κ–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Β ―³―Ä–Η–Ζ―΄ –Η –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―è―¹–Α). –£ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä―΄ –Ω–Α–Μ–Α―²―΄ ¬Ϊ―É–≥–Μ–Η―Ü–Κ–Η―Ö ―É–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ϋ―è–Ζ–Β–Ι¬Μ ―¹―΅–Η―²–Α―é―²―¹―è ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ψ–¥―΅–Β―¹―²–≤–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ XV –≤–Β–Κ–Α –≤–Ϋ–Β ―¹―²–Β–Ϋ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –ü–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―Ä―è–¥–Α –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Α–Μ–Α―²―΄, –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ―É, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Ϋ–Η―â–Β–Φ –Ω―Ä–Η –Ζ–Α―â–Η―²–Β –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤, ―è–≤–Μ―è―è―¹―¨, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Β–Ι-–¥–Ψ–Ϋ–Ε–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ (―ç―²–Ψ–Ι ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η –Ω–Α–Μ–Α―² –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é―² –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Β–Ϋ―΄, ―É–Ζ–Κ–Η–Β –±–Ψ–Ι–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ψ–Κ–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä―è–¥–Α –Η –≥–Μ―É―Ö–Α―è –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ―è―è –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―¹―²–Β–Ϋ–Α). –£–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β –Ω–Α–Μ–Α―² –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Α, –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Κ–Ϋ―è–Ε–Β―¹–Κ–Α―è –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤–Α―è. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç―²–Α–Ε –±―΄–Μ –Ε–Η–Μ―΄–Φ, ―²―É–¥–Α –≤–Β–Μ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ. –Δ―Ä–Β―²–Η–Ι ―ç―²–Α–Ε –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α–Μ―΄ –¥–Μ―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ψ–≤ –Η ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ, –Ψ–Ϋ-―²–Ψ –Η –±―΄–Μ –≤ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Α–Μ–Α―²–Ψ–Ι ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ω–Ψ–Φ. –ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É XVI –≤–Β–Κ–Α –Κ–Ϋ―è–Ε–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―Ü–Η―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –≤ ―É–Ω–Α–¥–Ψ–Κ, –Β–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Κ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ϋ―è–Ζ―è βÄî ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è. –Γ―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–Μ–Α―²―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–Φ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Ω–Α–Μ–Α―²―΄ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Κ –Ϋ–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Ψ ―¹ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç―²–Α–Ε. –£–Ψ―² –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β –Η ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅ –Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―¹ ¬Ϊ―Ä–Ψ–±―è―²–Α–Φ–Η¬Μ –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―é –®―É–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Β―²–Η –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅ ―É–±–Η–Μ―¹―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ ―ç―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Η –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β, –±―΄–≤―à–Η–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Β ―¹ ―Ü–Α―Ä–Η―Ü–Β–Ι¬Μ. –ù–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Ψ (–≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ù. –£. –Γ―É–Μ―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –≤ 1890-–Β –≥–Ψ–¥―΄) –Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Α–Μ―²–Α―Ä―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨: ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –û–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –£ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η ―¹–Μ―É―Ö–Η: ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅ ―΅―É–¥–Ψ–Φ ―¹–Ω–Α―¹―¹―è, –Ε–Η–≤ –Η –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–¥―É–Β―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ. –û–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ βÄî ―¹―΄–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –™―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β ―΅–Β―²–Α –™–Ψ–¥―É–Ϋ–Ψ–≤―É. –Γ–Μ―É―Ö–Η ―Ä–Ψ―¹–Μ–Η, –Η –î–Η–Φ–Η―²–Η―Ä–Η–Ι –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Ψ–Ε–Η–Μ¬Μ. –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –û―²―Ä–Β–Ω―¨–Β–≤, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ―É―é –Η–≥―Ä―É –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―²–Β―è–Μ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α―è ―¹–Β–±―è ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Β–Φ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ ―ç―²–Α –Η–≥―Ä–Α –Ζ–Α–Ι–¥–Β―². –Γ–Α–Φ –û―²―Ä–Β–Ω―¨–Β–≤ –±―΄–Μ ―É–±–Η―², –Ϋ–Ψ –≥―Ä–Β―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―²―è–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ: –Η –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β ¬Ϊ–Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Ε–¥―¨¬Μ –‰–≤–Α–Ϋ –ë–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ―¹–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è¬Μ –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–Φ; –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι (―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι ¬Ϊ―²―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ―Ä¬Μ) –Η–¥–Β―² ―¹ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β; –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Β–±―è –Κ–Α–Ζ–Α―Ü–Κ–Η–Ι –Α―²–Α–Φ–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ –½–Α―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι. –Ξ–Ψ–Μ–Ψ–Ω―΄, –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η-―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Η–≥–Η, –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Η-―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Η, –±–Ψ―è―Ä–Β, –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η, ―à–Μ―è―Ö―²–Η―΅–Η βÄî –≤―¹–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹―²–Α–Μ–Η –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è–Φ–Η. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η –≥–Η–±–Β–Μ–Η, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―É–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Η –≥―Ä–Α–±–Η–Μ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ε–Β. –ù–Ψ–≤―΄–Ι ―Ü–Α―Ä―¨ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –®―É–Ι―¹–Κ–Η–Ι –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è (–Φ–Α–Ι 1606 –≥–Ψ–¥–Α) –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –≤ –Θ–≥–Μ–Η―΅ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―é –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Φ–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–Φ –Λ–Η–Μ–Α―Ä–Β―²–Ψ–Φ (–†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ) –¥–Μ―è –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –€–Ψ–≥–Η–Μ–Α ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –≤ –ü―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Α –≤―¹–Κ―Ä―΄―²–Α, –Η –Ω–Ψ ―Ö―Ä–Α–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―É―Ö–Α–Ϋ–Η–Β. –Δ–Β–Μ–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―²–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Β –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Ε–Α―²–Α –≥–Ψ―Ä―¹―²―¨ –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ –Ψ–±―Ä–Β–Μ–Η –Φ–Ψ―â–Η ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Θ–≥–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Η―è ―¹–Ψ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–Μ–Η–Κ–≤–Η―è–Φ–Η –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Κ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –ù–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –Θ–≥–Μ–Η―΅–Α –±―΄–Μ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ –Φ–Ψ–Μ–Β–±–Β–Ϋ (–Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è ¬Ϊ–≤ –Ω–Ψ–Μ–Β¬Μ). –£ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Η―é –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η ―Ü–Α―Ä―¨ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –Η –Φ–Α―²―¨ –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è βÄî –Η–Ϋ–Ψ–Κ–Η–Ϋ―è –€–Α―Ä―³–Α. –€–Ψ―â–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Β–Φ–Μ―è, –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ε–¥―É―â–Η–Β, ―É –Φ–Ψ―â–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―΅―É–¥–Β―¹–Α. –·–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―â–Β–Ι ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ψ–Ι ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ϋ–Α–¥ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ―Ü–Β–Φ βÄî –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Α―²–Α–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ –ë–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –£ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β 1606 –≥–Ψ–¥―É ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é. –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β ¬Ϊ–•–Η―²–Η–Η¬Μ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ψ―² ―Ä―É–Κ –Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ―è―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Φ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–Φ –™–Ψ–¥―É–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ. –£–Β―Ä―¹–Η―è ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ–Α –Η –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Α –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅–Α –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–≤–Η –≤ –Θ–≥–Μ–Η―΅―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β–Φ–Μ–Β. –‰ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―Ü–Α―Ä–Β–≤–Η―΅ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β―Ü, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Η–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι II), –Α –Κ–Α–Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ϋ―è–Ζ―¨ –Θ–≥–Μ–Η―΅―¹–Κ–Η–Ι. –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―² –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è –Ϋ–Β –Ζ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨, –Α –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, ―Ö–Ψ―²―è –Ψ –Ϋ–Β–Ι –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ. –ë–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―² ―à–Β―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α–Κ–Α ―Ü–Α―Ä―è-―¹―É–Φ–Α―¹–±―Ä–Ψ–¥–Α. –ï–≥–Ψ –Φ–Α―²―¨ –Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―é –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Μ―É―΅―à–Η–Β –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―΅–Η–Ϋ―΄, –Η–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ, –≤―¹–Β, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Φ–Α―²―¨: –€–Α―Ä–Η―è –ù–Α–≥–Α―è, ―¹―²–Α–≤―à–Α―è –Η–Ϋ–Ψ–Κ–Η–Ϋ–Β–Ι –€–Α―Ä―³–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ―Ü–Α―Ö –Μ–Ε–Β-–î–Η–Φ–Η―²―Ä–Η―è―Ö. –ï–≥–Ψ ―΅―Ä–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Β–Κ–Α–Μ–Η –Η –Ω―É–≥–Α–Μ–Η –Ζ–Μ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ–Η –±–Ψ―è―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ω―è―² –Η –≤–Η–¥―è―² ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Α―Ä―è. –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ ―É–Φ–Β―Ä βÄî –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η ―΅―É–¥–Β―¹–Α–Φ–Η. –û–Ϋ –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―è―²―¹―è –Ψ –Φ–Α–Μ―΄―Ö –¥–Β―²―è―Ö. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –†–ê–ö–‰–Δ–‰–ù
|
 –û–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ, –≤–Η–¥―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥―É, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â―É―é –≤ –Φ–Η―Ä–Β, –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ –ë–Ψ–≥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Β―¹―²–Η–≤―΄–Β –Η –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ –±–Β–¥―΄ –Η –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ –Φ―É―΅–Α―é―²―¹―è, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Η –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Α―é―²―¹―è –Η –Ε–Η–≤―É―² ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ψ–± –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Α–Ι–Ϋ―΄, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: - –ù–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Ι ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Β―² ―É–Φ ―²–≤–Ψ–Ι –Η ―¹–Η–Μ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―²–≤–Ψ–Β–≥–Ψ. –ù–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―¹–Ω―É―¹―²–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Η―Ä –Η ―¹–Η–¥–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ι ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨, –Η –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―à―¨ –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –û–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ, –≤–Η–¥―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥―É, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â―É―é –≤ –Φ–Η―Ä–Β, –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ –ë–Ψ–≥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Β―¹―²–Η–≤―΄–Β –Η –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ –±–Β–¥―΄ –Η –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ –Φ―É―΅–Α―é―²―¹―è, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Η –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Α―é―²―¹―è –Η –Ε–Η–≤―É―² ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ψ–± –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Α–Ι–Ϋ―΄, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: - –ù–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Ι ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Β―² ―É–Φ ―²–≤–Ψ–Ι –Η ―¹–Η–Μ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―²–≤–Ψ–Β–≥–Ψ. –ù–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―¹–Ω―É―¹―²–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Η―Ä –Η ―¹–Η–¥–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ι ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨, –Η –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―à―¨ –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α –Φ–Α–Μ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –ë–Ψ–Ε–Η–Η―Ö. –Θ―¹–Μ―΄―à–Α–≤ ―¹–Η–Β, ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Η―Ä –Η –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Μ―É–≥―É, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α.
–ù–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É ―²–Α–Φ –±―΄–Μ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ, –≤ –¥―É–Ω–Μ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Μ―¹―è. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥―ä–Β―Ö–Α–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Ι –Ϋ–Α –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η. –û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―É –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Ω–Η―²―¨ –≤–Ψ–¥―΄ –Η –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ω–Η–Μ―¹―è, –≤―΄–Ϋ―É–Μ –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Κ–Ψ―à–Β–Μ–Β–Κ ―¹ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Β–Ι –¥―É–Κ–Α―²–Ψ–≤ –Η –Ω–Β―Ä–Β―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –Η―Ö. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹―΅–Β―², ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, –Η –Κ–Ψ―à–Β–Μ–Β–Κ ―É–Ω–Α–Μ –≤ ―²―Ä–Α–≤―É.
–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι –Κ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ―É, –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Κ–Ψ―à–Β–Μ–Β–Κ ―¹ –¥―É–Κ–Α―²–Α–Φ–Η, –≤–Ζ―è–Μ –Β–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ―è–Φ–Η.
–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι. –ë―É–¥―É―΅–Η ―É―¹―²–Α–Μ―΄–Φ, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ ―É –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α,
–Ϋ–Α–±―Ä–Α–Μ –≤–Ψ–¥–Η―΅–Κ–Η, –≤―΄–Ϋ―É–Μ ―Ö–Μ–Β–±―É―à–Κ–Α –Η–Ζ –Ω–Μ–Α―²–Κ–Α –Η ―¹―²–Α–Μ –Β―¹―²―¨.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ ―²–Ψ―² –Β–Μ, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Ι –≤―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ –Η ―¹ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ψ―² –≥–Ϋ–Β–≤–Α –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. –ë–Β–¥–Ϋ―è–Κ, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –Ψ –¥―É–Κ–Α―²–Α―Ö, ―É–≤–Β―Ä―è–Μ ―¹ –Κ–Μ―è―²–≤–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―â–Η. –ù–Ψ ―²–Ψ―², –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β―¹―²–Α―²―¨ –Η –±–Η―²―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―É–±–Η–Μ. –û–±―΄―¹–Κ–Α–≤ –≤―¹―é –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Α, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Η ―É―à–Β–Μ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι.
–Γ―²–Α―Ä–Β―Ü ―²–Ψ―² –≤―¹–Β –≤–Η–¥–Β–Μ –Η–Ζ –¥―É–Ω–Μ–Α –Η ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ―¹―è. –•–Α–Μ–Β–Μ –Η –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ –Ψ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ–Φ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Β, –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―É –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ:
- –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² ―ç―²–Α –≤–Ψ–Μ―è –Δ–≤–Ψ―è? –Γ–Κ–Α–Ε–Η –Φ–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Ψ―à―É –Δ–Β–±―è, –Κ–Α–Κ ―²–Β―Ä–Ω–Η―² –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹―²―¨ –Δ–≤–Ψ―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥―É? –û–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –¥―É–Κ–Α―²―΄, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Η―Ö –Ϋ–Α―à–Β–Μ, –Α –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―É–±–Η―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ.
–£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η, ―¹–Ψ―à–Β–Μ –ê–Ϋ–≥–Β–Μ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Β–Ϋ―¨ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É:
- –ù–Β –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨―¹―è, ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü, –Η –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Ι –Ψ―² –¥–Ψ―¹–Α–¥―΄, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―è–Κ–Ψ–±―΄ –±–Β–Ζ –≤–Ψ–Μ–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι. –ù–Ψ –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η―é, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è (–≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è), –Α –Η–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É. –‰―²–Α–Κ, ―¹–Μ―É―à–Α–Ι.
–Δ–Ψ―², –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –¥―É–Κ–Α―²―΄ - ―¹–Ψ―¹–Β–¥ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ―²–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Α―à–Β–Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Η–Φ–Β–Μ ―¹–Α–¥, ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―²–Ψ –¥―É–Κ–Α―²–Ψ–≤. –ë–Ψ–≥–Α―²―΄–Ι, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –±―΄–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹―²―è–Ε–Α―²–Β–Μ–Β–Ϋ, –≤―΄–Ϋ―É–¥–Η–Μ –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É ―¹–Α–¥ –Ζ–Α –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² –¥―É–Κ–Α―²–Ψ–≤. –ë–Β–¥–Ϋ―è–Κ ―²–Ψ―², –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –ë–Ψ–≥–Α –Ψ–± –Ψ―²–Φ―â–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –ë–Ψ–≥ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–Φ―É –≤–¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β.
–î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ, ―É―²–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Η –±―΄–Μ ―É–±–Η―² –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹–Α–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Κ–Α―è–Μ―¹―è –Η –≤―¹―é –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ-―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η –Η –±–Ψ–≥–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ. –ë–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –ë–Ψ–≥–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: "–ë–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ―É―é ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨, –Κ–Α–Κ―É―é ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―è, ―²―É –Ε–Β ―¹–Α–Φ―É―é –¥–Α–Ι –Φ–Ϋ–Β!" –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β. –Δ–Α–Κ, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –Β–≥–Ψ, –û–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―É–Φ–Β―Ä–Β―²―¨ –Β–Φ―É –Ϋ–Α―¹–Η–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ - –Κ–Α–Κ ―²–Ψ―² –ï–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ - –Η –≤–Ζ―è–Μ –Κ –Γ–Β–±–Β, –¥–Α–Ε–Β –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–≤ –Β–Φ―É ―¹–Η―è―é―â–Η–Ι –≤–Β–Ϋ–Β―Ü –Ζ–Α –Μ―é–±–Ψ―΅–Β―¹―²–Η–Β!
–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹―²―è–Ε–Α―²–Β–Μ―¨, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Ι –¥―É–Κ–Α―²―΄ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η–Ι ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Ψ―¹―²―è–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―¹―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η–Β. –ü–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Β–Φ―É –ë–Ψ–≥ –≤–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –≥―Ä–Β―Ö ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ–Α –¥―É―à–Α –Β–≥–Ψ –Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Κ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―é. –ü–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Φ–Η―Ä –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Φ.
–‰―²–Α–Κ, –≥–¥–Β, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –≤–Η–¥–Η―à―¨ ―²―΄, ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–≥ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ, –Η–Μ–Η –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ, –Η–Μ–Η –±–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Β–Ϋ? –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Ι ―¹―É–¥―¨–±―΄ –ë–Ψ–Ε–Η–Η, –Η–±–Ψ –Δ–Ψ―² ―²–≤–Ψ―Ä–Η―² –Η―Ö –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥―É. –½–Ϋ–Α–Ι ―²–Α–Κ–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²―¹―è –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ –≤–Ψ–Μ–Β –ë–Ψ–Ε―¨–Β–Ι, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―².
–Γ―²–Α―Ä–Β―Ü –ü–Α–Η―¹–Η–Ι –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ―Ä–Β―Ü.
|
–‰―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ: –‰–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ "–Γ–≤―è―²–Α―è –™–Ψ―Ä–Α" 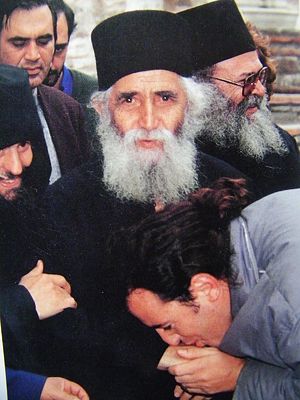 –¦―é–¥–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–±–Ψ―²–Ψ–≤. –¦―é–¥–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–±–Ψ―²–Ψ–≤.
–Δ–Β―Ä―è―é―² ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β, ―΅―¨―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Α ―¹ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –Κ–Α–Κ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄. *** –Γ–≤―è―²―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―É―é―² –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Ϋ―΄. –î–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α, –Φ―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Β–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä―É–Β–Φ. –ë–Ψ–≥―É ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Β (1) –Η –Ψ–Ϋ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Μ–Η–±–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ. *** –ï―¹–Μ–Η ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Η–Μ–Η –≤ –Β―Ä–Β―¹―¨, –±―É–¥–Β―² –¥–Ψ–±―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι βÄ™ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥―ë―² ―²–Α–Φ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Α–Μ ―ç–≥–Ψ–Η–Ζ–Φ βÄ™ –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² ―É–Ω–Ψ―Ä―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ–Ω–Μ–Α–Κ–Η–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. *** –ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²―΄ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η ―É―Ä–Α–≤–Ϋ―è―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ù–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Α―è –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –≤–Β–¥―¨ –≤―¹–Β –Μ―é–¥–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β. *** –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –ë–Ψ–≥―É –Η –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É, –Α ―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è βÄ™ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―é. –ù–Ψ ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η (–¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö) –Μ―é–±―è―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ë–Ψ–Ε–Η–Η―Ö ―²–≤–Α―Ä–Β–Ι, –Α –Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–≥–Α –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η―é ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. *** –ë―΄―²―¨ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Η–Φ–Β―²―¨ –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ –Η ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η. –¦―é–¥–Η ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ–Η (–≥–Β―Ä–Ψ–Η) –Η–Φ–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Η –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²―¨. –€―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β―Ü–Β–Μ–Ψ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–±―è –ë–Ψ–≥―É. –ï―¹–Μ–Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―²–Β–±–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ι ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―²―΄ ―¹–Α–Φ –≥―Ä–Β―à–Η–Μ –Η –Ψ―à–Η–±–Α–Μ―¹―è. –Γ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ψ–±–Η–¥―΄ –Η –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ. *** –Δ–Ψ―² ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥―É―à–Α –≤–Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Φ –±―É–¥–Β―² –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è βÄ™ –¥–Ψ–±―¨―ë―²―¹―è ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α. –ï―¹–Μ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄ™ –±―É–¥–Β―² –≤―΄–¥–Α―é―â–Η–Φ―¹―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¹―è βÄ™ –±―É–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ ―¹–Β–Φ―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ, ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ βÄ™ –Ω―Ä–Β―É―¹–Ω–Β–Β―² –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η –±―É–¥–Β―² –Ε–Η―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ βÄ™ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―¹–≤―è―²―΄–Φ. *** –ö–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―² ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―É―é –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―É, –Ψ–Ϋ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―² ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É ―²–Β–Μ―É. *** –£–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –¥–Α―Ä –ë–Ψ–≥―É –Η –Μ―é–¥―è–Φ, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β–Ι. –£ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Η―²–Β–Μ―è―Ö –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é ―²–Α–Κ –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Η―â―É. *** –ù–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –≤―¹–Μ―É―Ö –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É –Α―³–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö―É –¥–Η–Α–≤–Ψ–Μ ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ-–Ζ–Α, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –Ω―É―¹―²―è–Κ–Α. –û–Ϋ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ê―Ö ―ç―²–Ψ –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β!¬Μ. *** –ü–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ―è―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α―¹ –Ψ―² –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η―Ö ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ. *** –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α –Η-–Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Η―¹―²–Ψ―â–Α―²―¹―è –≤―¹–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Β–≥–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η―è. *** –î–Η–Α–≤–Ψ–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―²–Α–Κ. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ϋ–Α ―΅―ë–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ–Ι–Φ–Α―²―¨. –Γ–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Α–Φ–Η. *** –ü–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Φ –Ζ–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Β ―¹–Α―²–Α–Ϋ―΄. *** –Δ–≤–Ψ―Ä―è –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–≤―É –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―É –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Η –¥―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄. –£ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Η –Ψ ―΅―ë–Φ –¥―É–Φ–Α―²―¨. –î–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Η―¹―²―΄–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è –¥―É―à–Β–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β. *** –ù–Α–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―². *** –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Μ―É―΅―à–Β –Ω–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Β. –ù–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―ë–Φ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β (2) –Η–Μ–Η –Φ–Α―è–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Μ–Α―Ö (3). –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ―ë―¹ –≤ ―¹–Β–±–Β ―¹–≤–Β―². *** –ß―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β―É―¹–Ω–Β―²―¨ –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄ™ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Η―Ö (–¥–Α–Ε–Β –¥–Μ―è –¥–Η–Α–≤–Ψ–Μ–Α) ―¹–Φ―è–≥―΅–Α―é―â–Η–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –Γ–Β–±―è –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ù–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Η–Ϋ―É. *** –· –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–≤–Α―é ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –Β―¹–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –±–Ψ–≥–Ψ―Ö―É–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹―ë―² ―΅–Β–Ω―É―Ö–Η. *** –ï―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α βÄ™ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η –Β–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α. *** –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –ü–Α–Η―¹–Η–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä―É: ¬Ϊ–ù–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ι―²–Β –ê―³–Ψ–Ϋ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –Α ―²–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η –Ψ―¹―²–Α–≤―è―² –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Α–Φ–Η¬Μ. *** –û–¥–Η–Ϋ –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Η–Ι –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β, –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è. –ù–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –ü–Α–Η―¹–Η–Ι –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Β―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β: ¬Ϊ–Δ―΄ –Ψ–±–Β―â–Α–Μ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Η–Β, –Ϋ–Β –ë―É–¥–¥–Β –Η–Μ–Η –€–Α–≥–Ψ–Φ–Β–¥―É, –Α –Ξ―Ä–Η―¹―²―É. –•–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è ―²–Β–±–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è¬Μ. *** –Θ ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―². –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Η–Φ –Ϋ–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² βÄ™ ―¹―²–Α–≤–Η―² ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –Η –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –Γ–≤―è―²―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Η, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω―΄―², –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –≤ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η–Β ―Ü–Β–Μ―É―é –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Α–Ω―²–Β–Κ―É. *** –£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―ë―²―¹―è ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Β―ë ―è–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ βÄ™ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α–Ι―²–Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è. –ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –±–Β–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι βÄ™ –ë–Ψ–≥ –¥–Α―ë―² –Β–Φ―É ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ –Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β–Φ –Μ–Η―à―ë–Ϋ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ–¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ–Ζ¬Μ, –≥–Ψ―Ä–¥–Β―Ü –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Μ―é–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ –Η –Η–Ζ–±–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Ψ―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω–Η―²–Α–Β―². –ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―à―¨ –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―É –Ζ–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―É ―²–Β–±―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―¹―²―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Β―â―ë ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ –≥―Ä–Β―Ö–Α¬Μ. –ï―¹–Μ–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Β―à―¨ βÄ™ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α¬Μ. –Θ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Ψ―² ―¹–Β–±―è, –≤―¹―ë βÄ™ –¥–Α―Ä –ë–Ψ–Ε–Η–Ι. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ, –Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ (–Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –Β―â―ë –Ε–Η–≤–Α) –Ϋ–Β –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Β―à―¨. *** –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Α ―¹–Β–±―è –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Α–≤. –Γ–Α–Φ–Ψ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–¥–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α–Β―² –¥―É―à―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ε–Η–Μ–Η―â–Β–Φ –±–Β―¹–Ψ–≤. *** –Γ–≤―è―²–Α―è –™–Ψ―Ä–Α –ê―³–Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ–Β―² –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―²–Α. –û–Ϋ–Α –¥–Α―¹―² –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ–±―¨―é―²―¹―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Ι. –ë―É–¥–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–≤. –ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¹―è –Ψ–±―â–Β–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Η. ¬Ϊ–€–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β―¹―²―¨ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι. –Γ–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–≤ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β―É―¹–Ω–Β―²―¨. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–¥―É―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η βÄ™ –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ –Φ–Η―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤―¹―ë –Η –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Μ–Η ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Η―è. –†–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α–Φ–Η. –ù–Ψ –Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Β―É―¹–Ω–Β―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―É–¥―É―² –Η–Φ–Β―²―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β. (–Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤ 1978 –≥–Ψ–¥―É) *** –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –Α –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―é. *** –ü―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―²―É, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä―è―² –≤ ―΅―É–¥–Β―¹–Α. *** –î–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Β―É―¹–Ω–Β–≤―à–Η–Φ –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –≤–Ψ–Μ―é. *** –î–Ψ–±―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ βÄ™ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –Γ―²–Α―Ä–Β―Ü –ü–Α–Η―¹–Η–Ι –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ―Ä–Β―Ü (1) –Θ ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α –ü–Α–Η―¹–Η―è –¥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ë–Ψ–≥ ―É–Φ–Η–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ.
(2) –û―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –≤ –Φ–Η―Ä―É.
(3) –Γ―²–Α–Ϋ–Β―² –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Φ.
|
–ê―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –¦―É–Κ–Α (–ê–Ϋ–Η―΅) βÄî –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―² ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ–Β–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β–Ι –Γ–Β―Ä–±–Η–Η –Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―Ä–Η–Η, –Π–Β―²–Η–Ϋ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –†–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Α –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄. –Δ–Α–Φ ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¹―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β ―¹–≤―è―²―΄–Ϋ–Η βÄ™ –¥–Β―¹–Ϋ–Η―Ü–Α ―¹–≤. –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –Η –ö―Ä–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α, ―΅–Α―¹―²–Η―Ü–Α –ß–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Β―¹―²–Α –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è, –Φ–Ψ―â–Β–Ι –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –ü–Β―²―Ä–Α –Π–Β―²–Η–Ϋ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.  –ê―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –¦―É–Κ–Α (–ê–Ϋ–Η―΅) –Γ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α βÄî ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Γ–Α–≤–Η–Ϋ–Α –™–Μ–Α–≤–Η―Ü–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –ü–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –Ψ―²―Ü–Α –¦―É–Κ–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―² –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Μ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω–Μ―΄–≤–Ψ–Φ ―²―É―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ XII –≤–Β–Κ–Α, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―é –Β―â–Β―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Γ–Α–≤–≤–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Κ –Ψ. –¦―É–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² ―²―è–Ϋ―É―²―¹―è –Μ―é–¥–Η, –Η–¥―É―² –Η –Η–¥―É―², –Ζ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ψ―² –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. - –û―²–Β―Ü –¦―É–Κ–Α, –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –£―΄ –≤–Η–¥–Η―²–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ? - –· –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β, –≤ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―é―²―¹―è –Ψ―² ―²–Β―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β―¹–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–Ω–Β―΅–Α―²–Ψ–Κ. –Δ–Β –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Β ―²―è–≥–Ψ―²–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―é –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Φ–Η―Ä–Ψ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, –Η –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨―¹―è, –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―² ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Ψ–≥ –Η–Ζ–Ψ–±–Η–Μ–Η―è, –Η –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ε–Η―²―¨ –≤–Β―Ä–Ψ–Ι. –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Η―Ä–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―² ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –≥–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―²―΄–Ι –Ψ–±–Μ–Η–Κ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η. –ü―Ä–Η –Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―²―¹―è –Μ―é–±–Α―è –≤–Β―Ä–Α, –≤–Β―Ä–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α―é―² –Ψ―² ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é ¬Ϊ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β¬Μ, ―è –Η–Φ–Β―é –≤ –≤–Η–¥―É –Μ―É―΅―à–Η–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ –≤–Β―Ä–Ψ–Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Α –Ϋ–Β –≤―¹–Β―Ö –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–ΦβÄΠ –‰–±–Ψ –Η ―²–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ. –ï―â–Β ―¹–≤.–‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―²–Α–Κ –¦–Α–Ψ–¥–Η–Κ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ, –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Β–Φ―É –Γ–Α–Φ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–Δ―΄ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ –Η –Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä―è―΅. –ù–Ψ ―²–Β–Ω–Μ –Η –Η–Ζ–±–Μ―é―é ―²–Β–±―è –Η–Ζ ―É―¹―² –Γ–≤–Ψ–Η―Ö¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –¦–Α–Ψ–¥–Η–Κ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. βÄ™ –£ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –£―΄ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η –Η –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι: –≤ ―΅–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α? –Δ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β –Ϋ–Α–Φ, –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β? βÄ™ –ö–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―¹–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―² –Ω―É―²–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è. –£ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Β―¹―²―¨ ―ç―²–Η ¬Ϊ–Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄¬Μ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è: –Ω–Ψ―¹―², –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤―¹–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –•–Η–Ζ–Ϋ–Η, –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ι―²–Η –≤ –Δ–Α–Ι–Ϋ―΄ –ë–Ψ–Ε–Η–Η.  –û―²–Β―Ü –¦―É–Κ–Α –£ ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Φ―¹―è –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―²–Α–Ι–Ϋ―΄, –¥–Μ―è –≤–Α―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Η–±–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Γ–Α–Φ –ë–Ψ–≥, –≤–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Ϋ–Α―¹: ¬Ϊ–ê–≤–≤–Α –û―²―΅–Β!¬Μ, –Η ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α. - –ö–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α―²―¨ –≤–Β―Ä―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Β–≤–Α–Β―², –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η? - –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –ë–Ψ–≥―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι –≤―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Α―¹. –ù–Α–Φ –±―É–¥–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –±―É–¥–Β―² –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –≤–Β―Ä―É –Η–Ζ–≤–Ϋ–Β, –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Β–Β –≥–¥–Β-–Μ–Η–±–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Β–±–Β. –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Α–Φ ¬Ϊ–Π–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –ù–Β–±–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä―¨ –≤–Α―¹ –Β―¹―²―¨¬Μ. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―² –Κ –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α, βÄî –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―à –Φ–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ê–Φ―³–Η–Μ–Ψ―Ö–Η–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², βÄî ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹―²–Α―²―¨ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ψ–Φ –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è. –£ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Φ―΄ ―²–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―³–Β―Ä–Η–Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―³–Β―Ä–Η–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Α –Ϋ–Β –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –≤–Ψ–Ζ–Ε–Β–≥ –≤ –Ϋ–Α―¹ –Γ–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―à–Β―¹―²–≤–Η–Β–Φ. - –ö–Α–Κ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É –Η–¥―²–Η ―¹–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η ―Ä–Α―¹―²–Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ? - –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ, –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä–Α–Β―² –±–Η―²–≤―É. –û–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ξ–†–‰–Γ–Δ–‰–ê–ù–‰–ù –Η ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Β–¥–Β―² ―²―É –Ε–Β –±–Η―²–≤―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤–Β–¥–Β―²―¹―è –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β 2000 –Μ–Β―², βÄî –±–Η―²–≤―É –Ζ–Α –±–Ψ–≥–Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Φ–Η―Ä―É, –ë–Ψ–≥―É –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―² ―ç―²–Ψ βÄî ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Κ –Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―é ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ ―΅–Β–Φ―É ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η ―²–Ψ―² –Ε–Β –≤―΅–Β―Ä–Α, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Η –≤–Ψ –≤–Β–Κ–Η –≤–Β–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Α–≤–Β–Μ. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Μ–Ψ–Ε―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –¥―¨―è–≤–Ψ–Μ: ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è, –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Β―â–Β –Ϋ–Β―² ―Ä–Β―Ü–Β–Ω―²–Ψ–≤, –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ―¨―é―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι –Η –Ω―É―²–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Η–Ϋ―΄–Β. –ü–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é, ―΅―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Μ–Ψ–Ε―¨―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ –≤ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―¹–Α–Ε–¥–Α–Β―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η―é, ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η―é ―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ψ–¥–Β–≤–Α–Β–Φ―¹―è , –Η ―΅―²–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Η―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ―è–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ―² –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è. –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Φ, –Η–±–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―²–Β―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α. - –Δ–Β–Ω–Μ–Α –Μ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤–Β―Ä–Α ―¹–Β―Ä–±–Ψ–≤? - –£―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Β―Ä–±–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Κ –≤–Β―Ä–Β, –≤–Ψ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É. –Ξ–Ψ―²―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Β―Ä–±–Ψ–≤, –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Β–Β, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―é―²―¹―è –≤ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ψ―² ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―à–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η. –ù–Α―Ä–Ψ–¥ –≤ –¥―É―à–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ –ë–Ψ–≥―É –Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ, –Κ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Γ–Μ–Α–≤―΄. –ö–Α–Κ –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Η ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è (–£–Β–Μ–Β–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α), –Γ–Μ–Α–≤–Α –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α―Ö –Η –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ä–Α―¹―²–Β―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ, –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β―²–Β–Ι ―Ö–Ψ―²―è―² –Η–Ζ―É―΅–Α―²―¨ –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –≤–≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ–Α―Ö, –Η–Ζ―É―΅–Α―é―² ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―² ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ―Ä―΄. –≠―²–Ψ –¥–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄. - –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ, –Ψ―²―΅–Β, –Η –≤ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –£–Α―à–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Α–Μ–Α ¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –Η –Φ–Η―Ä¬Ϊ. - –€–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–ΒβÄΠ –£–Ψ―² ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―è –±―΄–Μ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Α―à–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Η–Ζ–Ψ–±–Η–Μ―É–Β―²–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨―é –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α –Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Β–±–Β –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α, –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―â–Η. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―²―è–Ϋ―É―²―΄–Φ –Η –±–Α–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤―¹–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ―É–¥―Ä―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è βÄî –Β―¹–Μ–Η ―è ―Ö–Ψ―΅―É –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Ψ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Β ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η–Μ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β, –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –≤ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―¹―É–±―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –Φ–Η―Ä–Α –Η –≤―¹―é–¥―É –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²―΄, –Η–±–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―². –£―΄―¹–Ψ―²―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε―É, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ―΄, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Β–Φ―΄ –Κ–Α–Κ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹―è –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –≤―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―Ä–Α―²―¨ ―¹ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä.  –ê―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –¦―É–Κ–Α (–ê–Ϋ–Η―΅) –Η –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α –¦―É–≥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –ë–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α –¦―É–≥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è
|
|
–ê―Ä―Ö–Η–≤
-
2013
(34)
-
2012
(204)
-
2011
(24)
–ö–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η
|