|
Category:
Прп. Сергий Радонежский
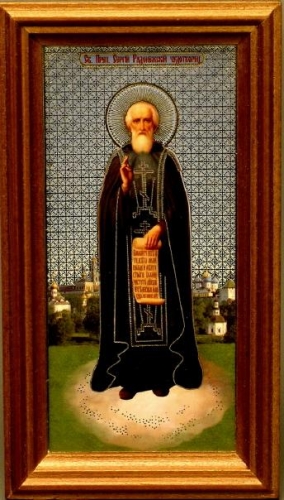
СхимникВ1892 году архиепископ Ярославский Ионафан [1] прибыл на торжества по случаю 500-летия со дня кончины преподобного Сергия в Троице-Сергиеву Лавру. Во время крестного хода его внимание привлек Старец в схиме, шествующий впереди образа преподобного Сергия. При виде Старца сердце архипастыря взыграло от радости, и он решил узнать у отца наместника его имя. Рассказав об этом отцу наместнику, услышал в ответ, что в Лавре есть один схимник, но участвовать в крестном ходе он не мог по старческой немощи. — Кто же был тот Старец? — Видимо, сам преподобный Сергий! - Ионафан (Руднев; † 1906), епископ Ярославский и Ростовский (с 1877). С 1883 архиепископ. С 1903 на покое. ^
Из книги "В Лавре Преподобного Сергия"
Пыльнева Галина Александровна
|
|
Category:
Прп. Сергий Радонежский
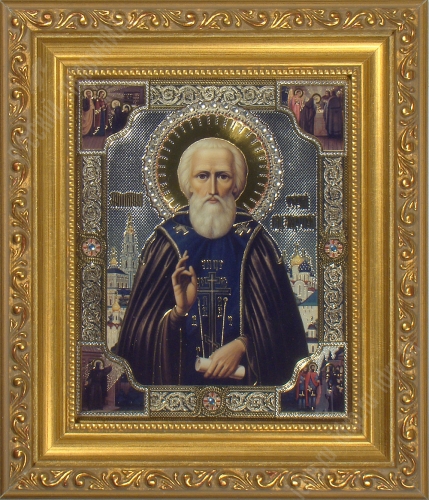
Некоторые случаи помощи преподобного Сергия в более близкое нам времяБлагословение ПреподобногоВ конце прошлого века многие жители Москвы и окрестностей считали своим долгом "сходить к Троице", именно сходить, одолевая пешком если не весь путь, то хотя бы часть его, что по силам. Так из Раменского решили идти в Лавру мать с сыном Колей и ее сестра со своим сынишкой. Дошли. Когда Коля подходил к мощам преподобного Сергия, то гробовой монах взял несколько монет, лежащих у раки Преподобного, велел Коле как бы в благословение от преподобного Сергия купить сочинение митрополита Московского Иннокентия "Указание пути в Царство Небесное" [1] для себя, а брату —речь профессора В. О. Ключевского к 500-летию прославления Преподобного. Колю удивила настойчивость монаха, но он послушался и купил то, что было велено. Дома он положил все это среди книг и забыл о покупке. Прошло 10 лет. Коля окончил гимназию и решил поступать в институт путей сообщения. Готовясь к экзаменам, перебирая книги в шкафу, наткнулся на брошюру митрополита Иннокентия, прочитал ее и, сдав экзамен, поехал в Оптину. Там отец Варсонофий [2] благословил его поступить в Духовную Академию. Впоследствии он стал монахом, епископом Варнавой (Беляевым) [3]. - См.: Иннокентий (Попов-Вениаминов), митрополит. Указание пути в Царствие Небесное: Беседа Высокопреосвященного Иннокентия, бывшего С [еверо]-Американского и Алеутского, потом митрополита Московского и Коломенского. [Загорск], 1990. (Репр.). 63 с.: ил. ^
- Варсонофий (Плиханков; 1845–1913; память 1/14 апреля, 11/24 октября), преподобный старец Оптинский, схиархимандрит. В миру служил полковником. Поступил в Оптину в 1891 по благословению преподобного Амвросия. Ученик преподобного Анатолия (Зерцалова), затем обращался к преподобному Нектарию. Духовный наставник преподобного Никона (Беляева), старца Оптинского. В 1912 был назначен настоятелем Старо-Голутвина подмосковного монастыря с возведением в сан архимандрита, где и скончался. О нем см.: Житие Оптинского старца Варсонофия. Оптина пустынь, 1995. 463 с. (Преподобные Старцы Оптинские). ^
- Варнава (Николай Николаевич Беляев; 1887–1963), епископ Васильсурский. Родился в Москве. В 1911 поступил в МДАи принял монашеский постриг. В 1915 иеромонах Варнава направлен преподавателем в Нижегородскую ДС. В 1920 архимандрит Варнава посвящен в епископа Васильсурского (Печерского), викария Нижегородской епархии. В 1922 правящий Нижегородский архиерей перешел к обновленцам, а епископ Варнава удаляется на покой, в затвор, и принимает подвиг юродства, занимаясь писательскими трудами. В 1933 арестован, в 1936 освобожден. До 1949 проживал в Томске, остальное время в Киеве, где скончался и был погребен.В 1908 году Николай Беляев посещает Оптину пустынь, где желает остаться у преподобного Варсонофия. В это время у Старца был другой послушник Николай Беляев (1888–1931) — будущий преподобный Никон Оптинский исповедник. Николая Беляева-старшего в Скит не приняли. ^
ПричащениеДуховник афонского русского монастыря в молодости был в России, где и мог слышать о случае в Троице-Сергиевой Лавре, о котором он, отец Кирик, рассказывал уже в Сербии, куда его вызывал сербский Патриарх Варнава в 30-40-х годах ХХвека. Вот его рассказ. "В Сергиевой Лавре был такой случай: пришли к больному иеромонаху причастить, и как только открыли двери его келии, в этот момент исчезла крыша и с небес спустился в келию Сам Христос, окруженный Ангелами. Он взял из рук священника Чашу и Сам причастил больного иеромонаха, затем отдал Святую Чашу священнику и тем же путем, окруженный святыми Ангелами, вознесся на небо. Так и каждого, кто с верою и должными мыслями подходит к Святому Причастию, Господь удостаивает подобного образа Святого Причастия". О мыслях, с которыми надо подходить к Святой Чаше, отец Кирик, памятуя этот случай, говорил: "Подходя к Святой Чаше, потребно сказать себе мысленно: "Господи, я недостоин сладкого Твоего Причастия, но я верую, что Ты меня удостоишь"— и подходить с живой верой и сознанием, что тебя Сам Христос причащает, хотя видимо священник или архиерей, но невидимо — Сам Христос". Ласка ПреподобногоВ начале XX века в Сергиевом Посаде жила Н. Верховцева [1]. В своих воспоминаниях она делится пережитым ею волнением, охватившим ее во сне. Она запомнила дату — 20 июня 1917 года. Ей было тогда 20 лет и она жила с мамой недалеко от Лавры. Во сне она видела преподобного Сергия. "Я увидела себя стоящей у святых мощей в вечерний, столь мною любимый час. Рака была уже полузакрыта. Вдруг вижу в ней движение: крышка отодвинута, и на край раки садится старец — сам Преподобный… Худое, изможденное, бесконечно доброе родное лицо, а у меня страх, трепет и ужас. Да, именно человеческий ужас перед сверхъестественным для слабого разума нашего явлением. Но мгновение, другое — и дух превозмог, и изгнан страх, и я у святых его ножек. Преподобный обеими руками приподнял меня, обнял и, прижав к груди, поцеловал трижды: в угол щеки, переносицу и лоб, говоря беспредельно нежно: "Милая моя детка...." Я, бросившись вновь к его ножкам, с рыданием и мольбой: "Прости, помилуй, не оставь — Преподобный, Преподобный!". И вот от чрезмерного волнения, напряжения и слез проснулась и зову маму...." - См.: Верховцева Н. А. Сергиев Посад // Благодарю Бога моего. Воспоминания Веры Тимофеевны и Натальи Александровны Верховцевых. М., 2001. С. 54–63. ^
Посещение ПреподобногоС именем преподобного Сергия связано было и переживание сравнительно недавно скончавшейся москвички А. А., о котором она писала в завещании дочери. Само завещание было написано в 1956 году, задолго до смерти. "Когда зимой мы с тобой жили у Т. А., я спала у окна. Однажды к утру открывается дверь, входит Старец. Он наклоняется ко мне и так тихо-тихо, ласково говорит: "Только бы окрестить...." Несколько раз повторил это. Я, пораженная, проснулась, а голос так и звучит, даже сейчас его помню. Слова эти относились к папе, хотя перед этим я о нем не думала. Оделась, умылась, пошла в Лавру. Когда дошла до калитки, поняла: "Боже мой! Это же преподобный Сергий посетил меня!". Остановилась... и в этот момент не то что поняла, а явно, абсолютно познала: преподобный Сергий жив, как мы, существует, есть мир невидимый! До этого момента я так реально, точно, этого себе не представляла. Я не шла, а летела как на крыльях, в душе было так светло! "Не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие, преподобне отче наш!". И я убедилась воочию, что он истинно посещает, страшно сказать, чад своих. Как мне было хорошо! Преподобный Сергий — наш покровитель! Помни его всегда, молись ему всегда, люби его, проси обо всем, отдавай ему свое сердце, как самому родному, близкому отцу, и он все тебе сделает". Окрестить надо было мужа А. А., что и сделали родные. Явление ПреподобногоВ 60-х годах ХХ века Сергей Иосифович Фудель записал: "Мне рассказывали, что во время наступления немцев на Москву три мальчика г. Загорска лет 10–11, Боря, Миша, Сережа — пошли под вечер 27 августа, то есть под Успение, в сторону Черниговской в лес за дровами. Скоро стало темнеть, и они обнаружили, что заблудились. Долго они ходили, не видя выхода. Кто-то из них сказал: "Ну что ж, надо помолиться". Это было поручено Мише: "Миша, ты помолись, ты умеешь". Миша несколько раз перекрестился. После этого они опять пошли искать дорогу, но все же не находили. И тут они увидели, что сквозь ветви уже темного леса показался мигающий огонек. "Наверное, сторож или лесник",— сказали они и пошли на огонек. На открывшейся небольшой поляне они увидели человека "в шапке, которую носят батюшки". В правой руке у него был большой крест, а в левой "что-то, чем он все время помахивал" (так они, очевидно, восприняли кадило) . Тут мальчиков охватил страх, но уже другого рода. Миша оказался в середине, и они начали его толкать локтями с той же просьбой: "Молись, молись". И как только он "замолился", человек в "шапке, как у батюшки" начал осенять [их] крестом. И тогда они увидели светлую дорогу в направлении крестного осенения и побежали по ней. И когда они вышли из лесу и шли [уже] по знакомому лугу, они поняли, что никакой дороги, собственно, под ними не было, а шли они по дороге света. И, подходя к своим домам, они решили: "Завтра… пойдем в церковь". Взрослые, сопоставив их рассказ с направлением этой их обратной дороги, поняли, что Преподобный осенял не только их, но и всю Лавру, свой "град", и некоторые, уже решившие эвакуироваться, остались на месте, успокоенные в том, что город их под небесной защитой" [1]. - См.: Московский журнал. 1992. № 3.— Авт.См. также: Фудель С. И. У стен Церкви. Макариев-Решемская обитель, 1997. С. 76–77. ^
ПризваниеО чудесной помощи преподобного Сергия рассказал и настоятель Ахтырской церкви отец Борис Можаев [1]. Он работал врачом. Заболел. Лежал в палате без сознания. Жена, тоже врач по специальности, услышала от заведующего отделением приговор: "Смерть — вопрос короткого времени". Со страшной тоской поехала она к Преподобному в Лавру. "Тяготит, камнем давит не столько то, что она, молодая, но уже с крепко подорванным здоровьем женщина, останется с двумя детьми, никому вообще-то ненужная, обреченная на одиночество, относительную нищету, но больше тоска оттого, что уходит в вечную гибель, на вечные муки, без надежды на прощение и спасение близкий человек, с которым худо-бедно делили радости и невзгоды уже 15 лет". Впоследствии муж ее говорил: "Видимо, горяча и искренна была ее молитва. Она восстала от раки с чувством, что камень с души упал. Ничего не изменилось, но тоска пропала". В этот день, когда она молилась у Преподобного, муж вдруг пришел в сознание. Сначала — ненадолго, а ночью — уже окончательно. И стал поправляться. Выздоровел. Стал верующим и принял священство. - См.: Можаев Б., свящ. Как я стал священником // Ахтырка: Спецвыпуск газеты "Хотьковский вестник". 1993. №48.— Авт.^
"Надо молиться!"Об образе преподобного Сергия, возникшем в детском сознании, рассказывает пенсионерка. Скорее всего, он возник во сне, но на всю жизнь сохранился очень живо. "Чувствую, что стою у самых дверей храма, которого четко не вижу. Впереди замечаю движение среди священнослужителей, знаю, что сейчас они будут выходить на солею читать входные молитвы. Храм напоминал Всехсвятский под Успенским собором в Лавре, но был вместительнее, свободнее, без массивных столбов, но такой же низкий. Идти вперед не хотелось. И ничего не хотелось. Тяжело было на душе, очень тяжело. Не хотелось двигаться, думать, говорить. Ни на что не было сил. Все тело, казалось, стало каменным. Пальцы — каменные. Их невозможно сложить для крестного знамения, нет сил поднять руку. Что-то слышу—не прислушиваюсь, что-то вижу не глядя. Все плывет мимо сознания, и все кажется ненужным. Бессилие и безразличие полное. В какой-то момент справа, чуть сзади, ощущаю присутствие... Старца. Он выше меня, но не очень высок. Не глядя, знаю, что он здесь потому, что хочет мне помочь, что он меня жалеет. Знаю и то, что он очень хорошо понимает, что говорить бесполезно. Если что-то еще можно сделать, так только сердечным участием, душевным теплом, такой искренней заботой, без которых душа окаменела, оледенела. Он — я это чувствую — очень просто держится, его не надо бояться, он не прогонит, не укорит. Он знает, что очень тяжело, и потому специально подошел, не сказав ни единого слова. Он берет правую руку, складывает пальцы для крестного знамения и поднимает ее. Так взрослые маленьких крестят их ручкой. Моя тяжелая, непослушная рука с трудом повинуется. В это время к нему из алтаря выходят, прося благословения начинать литургию, какие-то важные, сияющие богатством облачения архимандриты или архиереи, не вижу точно, потому что не смотрю. Не до этого. Мой Старец благословляет их начинать, но не уходит. Их там много, они все прочитают как надо. А он пока меня не бросит, пока побудет. Он не спешит, он тут, рядом. От его присутствия, его участия начинает оттаивать душа. Свинцовая тяжесть понемногу теряет вес. Я понимаю, что он хочет сказать: надо молиться. Обязательно молиться, понуждать себя на молитву, как бы ни было трудно. В душе шевельнулось согласие. Тяжесть сползла, как подтаявшая глыба слежавшегося снега с крыши. В душе понемногу стали оживать силы. Ясно — Старец должен уйти. Теперь это уже не пугало. Он пойдет к тем, кому еще очень тяжело и горько. Мне уже легче, и во все существо проникает живительная теплота. Возвращается жизнь. Теперь я знаю — это наш авва Сергий! Это, несомненно, он! И смешанное чувство удивления, благодарности и... надежды не так быстро, но решительно возвращает из туманного, холодного, окамененного нечувствия". "Ты здоров!"Однажды вечером, перед закрытием Троицкого собора в Лавре, когда все богомольцы идут на службу в Успенский собор или Трапезную церковь, группа военных просила разрешения осмотреть древний собор. Отец Николай разрешил и сам рассказал о Лавре, о ее основателе — преподобном Сергие, о многочисленных чудесах при его жизни и после кончины. Военные слушали, удивляясь больше тому, что есть еще на свете странные люди, которые могут жить в этих древних стенах, интересоваться давно минувшим, верить в чудеса, уходить в молитвы... Все это такое далекое от жизни, почти нереальное. Послушали, вежливо поблагодарили и направились к выходу. Один их них, Евгений, на мгновение задержался и, не отдавая себе отчета, вдруг мысленно обратился к преподобному Сергию: "Если ты есть и меня слышишь, то устрой так, чтобы мне годика на два заболеть. Все просят исцеления, а мне бы — заболеть". Вернувшись к своим делам, он забыл о командировке и об экскурсии в Лавру: сколько всяких музеев повидал он на своем веку! Однако через несколько дней он почувствовал недомогание. Решил, что в дороге немного простудился, пройдет. Других болезней не знал и в своем здоровье не сомневался. Вскоре его нашли на полу в своем кабинете без сознания. Очнулся он в больничной палате, увидел испуганные глаза жены и никак не мог понять, что же с ним случилось — тела будто не было. Не только встать—даже пошевелиться не мог. Осознав свое положение, решил: "Бороться!". Как умел, пробовал утешить жену, которую очень любил. Он совершенно не представлял себе, что его ожидает, и потому не испытывал ни страха, ни подавленности. Его переводили из больницы в клинику, из госпиталя в "центр", и не в один. Полтора года он менял места, и нигде ему не могли помочь. Наконец, исчерпав все возможности, привезли домой. Друзья, родные делали все, что где-то кому-то чудесно помогало, но здесь все было бесполезно. Евгений мог лишь полулежа читать. Он изучил все восточные и народные методы лечения, занимался гимнастикой, которую рекомендовал мудрый Восток, делал дыхательные упражнения, но ничего не менялось. Жена объездила всех знахарей и целителей — без толку. В одно весеннее утро он проснулся спокойным, почти радостным... и вскоре вдруг почувствовал такое отвращение и ко всем упражнениям, и ко всем книжкам-лечебникам — ко всему. Он понял, что надежды нет. Захотелось умереть. Жена была рядом, пробовала уговорить, отвлечь, утешить. У Евгения приступы тоски сменялись равнодушием. Как-то жена сказала, что хочет пойти в церковь. — Иди,— безучастно отпустил больной. Когда жены не было, он плакал от горечи, от тоски, от своей обреченности. Жена стала спокойнее. Он удивлялся, но не расспрашивал. Заметил только, что у жены появились книги с крестиками на обложках. Евгений их не читал. Один только раз взял одну в руки, прочитал: "Житие преподобного Сергия Радонежского, чудотворца". Полистал, положил на место. — Евгений, вставай. Сегодня исполнилось ровно два года. Ты помнишь? Рядом с кроватью стоял незнакомый человек, пожилой. Кто он? Как вошел? Наверное, жена, уходя, забыла закрыть дверь. Но странно: от звуков этого голоса тело как бы стало наливаться теплом, оживать. Захотелось двигаться! Евгений встал. — Теперь ты здоров,— слышит Евгений, но никого уже не видит. Бросился к дверям — заперты. Когда вернулась жена, то увидела его на коленях перед раскрытой книгой. Он встал, обнял ее, и они оба опустились снова на колени перед книгой, с раскрытой страницы смотрел на них тот, кто совсем недавно был тут, кто сказал такие чудесные слова: "Ты здоров!". Евгений действительно стал здоровым, обрел веру и приезжал к преподобному Сергию благодарить за исцеление. Он и рассказал это все архимандриту Никодиму, от которого мы узнали о случившемся в древнем соборе Святой Троицы в наши дни. ДеньгиВ 1946 году Нина, услышав об открывшейся Троице-Сергиевой Лавре, собралась приехать из Сибири. С трудом набрала денег на дорогу в один конец. А как ехать обратно? Но не оставаться же из-за этого дома?! Приехала в столицу, потом на электричке в Лавру. Вышла на станции, пошла за всеми. Повернула к спуску, глянула вперед и ахнула: какая красота! Трудно поверить, что все это не во сне, а наяву. В несколько дней истратила она оставшиеся пятерки, трешки, рубли. Хорошо помнила, что разменяла последний рубль. Обычно она допоздна стояла в Лавре, только на ночь приходила к хозяйке, пустившей богомолку из такой дали. Однажды поздно вечером она подумала, что надо признаться: нет денег, нечем за ночлег заплатить. Может, позволит хозяйка в огороде поработать или полы помыть, постирать... только б не выгнала! Чуть свет, когда Нина встала, чтобы идти к братскому молебну, подошла к стулу с наброшенной на спинку кофточкой, сунула руку в карман... Вчера там лежал последний рубль, теперь могут быть лишь монетки. Но рука чувствует что-то... Смотрит и холодеет от ужаса: деньги! Ее уже истраченные трешки, пятерки, рубли... Как они снова оказались в ее кармане? Нет, она их видит не во сне. Деньги как деньги... И недоумение, и страх, и вдруг радость: это же Бог послал по молитвам преподобного Сергия! Она заплатила хозяйке, купила свечи, хлеба, подала нищей. От отпуска осталось всего несколько дней, деньги она потратила. Пора уезжать, а билет покупать не на что. Просить опять чуда? Она молилась долго, до изнеможения. Проснулась до рассвета, затаив дыхание опустила руку в тот же давно пустой карман... и снова нащупала все те же свои трешки, пятерки, рубли. Ровно столько, сколько надо на билет. От волнения боялась слово проронить. Дома, в своей далекой Сибири, она решила обязательно еще раз поехать в Лавру, поблагодарить Преподобного, что не оставил ее в крайней нужде. И не только поблагодарить в молитве, но и рассказать на исповеди священнику. Рассказала она архимандриту Сергию, от которого узнали об этом и другие. "И меня пристрой!"В главных воротах Лавры можно видеть настенные росписи — они раскрывают жизнь Преподобного. Один эпизод особенно волновал знакомую старушку: где Преподобный строит сени. Она приехала из деревни — знакомых нет, работы нет, жилья нет, денег мало. Ходила и, глядя на труженика, просила: "Преподобный, молитвами своими пристрой меня куда-нибудь, помоги найти уголок для жилья и обязательно с огородиком, хоть маленьким". Просила от души и выпросила. Нашелся для нее и уголок, и огородик. И сама стала в Лавре работать, делала что велят, молилась усердно, радовалась и благодарила Преподобного. Дожила до глубокой старости, сохранив удивительную простоту, доброжелательность, спокойствие душевное и молитву. Если кто-нибудь скажет, что была у нее молитва непрестанной,— не удивишься, поверишь. Такими, наверное, были многие наши богомольные и смиренные предки — Святая Русь. Из книги "В Лавре Преподобного Сергия"
Пыльнева Галина Александровна
|
|
Category:
Прп. Сергий Радонежский

О мощах преподобного СергияИз письма архиепископа Михея "В 1916 году в газетах было опубликовано сообщение о пожаре в Троице-Сергиевой Лавре, во время которого сгорели мощи преподобного Сергия. Дело было так: до 1916 года мощи были нетленными. Их обкладывали ватой, которую раздавали верующим в благословение. Случилось так, что гробовой иеромонах (тот, которому благословлялось стоять у мощей преподобного Сергия и служить молебны) не заметил, как в раку попала искра от свечи. Уходя на обед, он закрыл крышку раки. Искра при малом доступе воздуха тлела в вате, и вата потихоньку загоралась. Когда иеромонах вернулся, открыл крышку, вата вспыхнула и тут же все загорелось. Остались лишь кости. Это было промыслительным попущением. В 1918 году декретом Ленина была организована комиссия по обследованию и изъятию мощей. Очевидцы рассказывали, что комиссия, обследовавшая мощи преподобного Сергия, установила несоответствие черепа скелету. Они принадлежали разным людям. Агитаторы на площади кричали об обмане монахов, выставляя этот факт. Мощи преподобного Сергия не раз вывозили в Москву, выставляли в Трапезной церкви, где был устроен клуб, где пели и плясали, веселились, как и везде в клубах. Перед войной мощи Преподобного снова поместили в его раку в Троицком соборе. В Великую Субботу 1946 года мощи преподобного Сергия были переданы во вновь открывшуюся Лавру. Весть об открытии Лавры молниеносно облетела все окрестные места. Из Москвы и окрестностей поехали верующие в таком количестве, что каждый день огромный Успенский собор на Страстной был более чем полон. Когда сообщили о том, что можно взять мощи и перенести в Успенский собор из Троицкого, который оставался еще в ведении музея, прекратили доступ народа с куличами и пасхами в Лавру. Их направляли в Ильинскую церковь. Милиция закрыла ворота. Казалось, что всех удалили с территории Лавры. Народ насторожился, куда-то попрятались многие. Отец Гурий и с ним все духовенство, взяв десять человек рабочих, отправились в Троицкий собор за мощами. Переносить решено было вместе с ракой (ее пожертвовал Иоанн Грозный, и весит она 60 пудов, потому и потребовались рабочие). Отец Гурий прислал Игоря взять епитрахили для священнослужителей. Иван Сергеевич и я оставались в соборе. И вот из Троицкого собора показалось шествие: шли рабочие, несшие раку, диаконы и священники. Иван Сергеевич зажег охапку свечей. И только показалось это шествие, как вдруг из закоулков хлынул народ. Милиция не смогла удержать напора, и вскоре вся площадь наполнилась народом. Иван Сергеевич и я стали охапками раздавать свечи, и народ мощно запел: "Ублажаем тя, преподобне отче наш Сергие...." С этим пением среди моря горящих свечей внесли раку с мощами Преподобного в Успенский собор, отслужили сразу же молебен Преподобному. Собор наполнился народом. Раку поставили справа — на ступеньки у южной стены собора. Духовенство разошлось, и мне пришлось для порядка встать у раки вместо гробового иеромонаха. При передаче мощей оказалось, что были оторваны петли у крышки, одной совсем не было. Назначенный в помощь отцу Гурию отец Иларион был прекрасным мастером по металлу. Он своими руками сделал петли для раки. Впоследствии Патриарх пожертвовал для сени малиновую парчу с золотом и две художественные колонки от Царских врат XVII века, из которых была первоначально устроена сень у правой колонны впереди, затем ее перенесли на правый клирос. Через некоторое время отец Иларион говорит отцу Гурию: — Отец Гурий, а ведь подлинный череп преподобного Сергия хранится в моем храме в Сергиевом приделе под престолом. — Как так? Отец Иларион рассказал, что в 1918 году перед приходом комиссии череп был подменен [1], подлинный череп преподобного Сергия передан был в его храм для хранения. Храм этот никогда не закрывался. Отец Гурий доложил Патриарху, который дал новую схиму и благословил подлинный череп преподобного Сергия водрузить на место в раку, а подложный захоронить. Так и сделали во время переоблачения святых мощей". - "…Череп был подменен…". Подробно об этом см.: Андроник (Трубачев), игумен. Судьба главы преподобного Сергия // ЖМП. 2001. № 4. С. 33–53. "Одновременно с тем, как Святейший Патриарх Тихон и сотни верующих православных общин Сергиева Посада вели неравную борьбу с государством за сохранение мощей преподобного Сергия, священник Павел Флоренский и граф Юрий Александрович Олсуфьев по благословению Патриарха Тихона тайно от всех сокрыли честную главу Преподобного" (там же, с. 33). В храме с. Виноградова глава Преподобного хранилась в 1941–1945. В 1920–1941 и в 1945–1946 — в других тайниках. ^
Из книги "В Лавре Преподобного Сергия" Пыльнева Галина Александровна
|
|
Category:
Прп. Сергий Радонежский

Об открытии ЛаврыВ детстве о подробностях открытия Лавры мне мало что удавалось услышать, а позже в письме одного из первых послушников (теперь он архиепископ Ярославский) получила довольно подробные и интересные сведения. Переписываю целиком. Из письма архиепископа Михея "В 1945 году Патриарх Алексий [1] из Ташкента вызвал архимандрита Гурия [2], которого знал по Ленинграду, и за восемь месяцев до открытия Лавры назначил его наместником. А пока он был назначен в Ильинскую церковь г. Загорска [3] почетным настоятелем. Отец Гурий стал служить каждое воскресенье утром, а вечером в воскресенье — акафист преподобному Сергию и обязательно проводил беседу. Служил он и во все большие праздничные дни, и часто в малые праздники и неизменно проповедовал. Служение и проповедь отца Гурия так расположили к нему народ, что верующие приезжали на его службы из Москвы и из других мест. Каждый вторник отец Гурий ездил на прием к Патриарху. В 1946 году на Страстную Седмицу во Вторник он также явился к Патриарху и тот сообщил ему, что на следующий день передадут ему ключи от Успенского лаврского собора и нужно, чтобы на Пасху уже была служба. В Великий Четверг после литургии отец Гурий в Ильинском храме объявил, что открывается Лавра, и просил всех, кто может, прийти помочь прибрать храм, приготовить его к службе. Лавру закрыли в 1920 году. Можно себе представить, сколько пыли, грязи накопилось в закрытом соборе за 26 лет. Мы вошли в собор. Стекла в барабанах выбиты, на полу снег, лед. И конечно, неимоверный холод. Собор не отапливался, да и Пасха тогда была ранняя. В соборе стояла карета Елизаветы Петровны, на паперти — чучело медведя... Впрочем, работники музея вскоре все лишнее убрали. Благодаря тому что отца Гурия знали и уважали многие прихожане Ильинского храма, на его призыв откликнулись. Пришли в собор с ведрами, тряпками, стали протирать, чистить иконостас, паникадила, мыть полы. Престол в соборе из кирпича сложен, он был разоблачен. Надо срочно шить одежды на престол и жертвенник. Ольга Павловна (дочь отца Павла Флоренского [4]) взялась пошить облачение, верхнее и нижнее, на престол и жертвенник. Патриарх дал парчу, а остальной материал пожертвовали верующие. Из ризницы музея выдали Плащаницу, сосуды, облачения, кадила, напрестольное Евангелие, кресты. Кое-что дал Патриарх, часть необходимой утвари — Ильинский храм. Патриарх назначил временно для служения в помощь отцу Гурию архимандрита Илариона [5] (он был на Афоне, и во время имяславской смуты в 1913 году его вернули в Россию. Он поселился в Москве, был назначен настоятелем Страстного монастыря. Позже он служил в селе Виноградово, на станции Долгопрудной, в храме Владимирской иконы Божией Матери вместе со своим братом, целебатным священником). Вторым священником был игумен Даниил, диаконом — иеродиакон Иннокентий [6], обладавший громким и красивым голосом. В Великий Четверг вечером уже служили утреню с чтением 12-ти Евангелий, а в Великую Пятницу днем был вынос Плащаницы и вечером — Чин погребения и все последующие службы. И вот некоторые чудесные детали (для несведущего человека многое ускользает от внимания): нужен хор, нужны люди, которых можно поставить за ящик, нужны свечи, просфоры, нужны люди, которые бы пекли просфоры, убирали храм. Поистине чудо, что за один день все смогли организовать! В Ильинской церкви был любительский хор, которым руководил Сергей Михайлович Боскин [7]. Сам он в юные годы был послушником в Зосимовой пустыни. Он хорошо знал традиции и напевы Сергиевой Лавры. Его хор из любителей и стал первым лаврским хором. Незадолго до открытия к отцу Гурию пришла женщина и принесла канцелярскую папку. Она сказала, что у нее после закрытия Лавры жил последний наместник архимандрит Кронид [8]. Он дал ей эту папку на хранение, сказав: "Передай ее следующему наместнику". Отец Гурий открыл ее. Там был антиминс Успенского собора [9]. Во время войны ураганом снесло главный крест с Успенского собора. Еще до открытия Лавры музей отреставрировал крест. И вот накануне подъема креста пришел к отцу Гурию старший рабочий Баринов и сказал: "Я человек старый, помню, с каким торжеством в прежнее время ставили крест наверху храма, совершали молебствие. Вы освятите мне иконочку и дайте, я вделаю ее в крест". Отец Гурий совершил чин поставления креста перед малой иконкой преподобного Сергия, освятил ее и отдал Баринову, который вделал ее в середину креста, и таким образом Успенский собор был увенчан освященным крестом. В другое время пришел к отцу Гурию некий Константин Иванович [10] и сказал: "Я — последний в Лавре звонил перед ее закрытием, разрешите мне и начать звон". Так и звонарь нашелся. Жила тогда в Загорске схиигумения Мария [11]. Ее послушницы взялись печь просфоры, артосы, хлебцы. Отец Гурий жил тогда у церковного старосты Ильинской церкви Ильи Васильевича. Он очень помог Лавре на первых порах свечами, гарным [12] маслом, кадильным углем, ладаном, обеспечил необходимыми рабочими и материалом. В то время все очень трудно было достать. За свечным ящиком поставили Ивана Сергеевича Булычева, верующего человека, сопровождавшего схиархимандрита Илариона. В алтаре прислуживать стали Игорь и я. Храм убирали верующие загорчане". - Алексий I (Симанский; 1877–1970), Патриарх Московский и всея Руси в 1945–1970. Учился в Лазаревской гимназии института восточных языков, в Николаевском лицее, на юридическом факультете Московского университета (окончил за три года). В 1913 архиерейская хиротония. В 1922–1925 в ссылке. С 1926 архиепископ. Затем служил в гренадерском Самогитском полку. Окончил МДА, на II курсе которой, в 1902 году, принял монашество, иеродиаконство и в 1903 — иерейский сан. Кандидат богословия. В 1913 хиротонисан во епископа. С 1926 архиепископ и член Синода. С 1932 митрополит. В 1944–1945 патриарший местоблюститель. Избран Патриархом на Поместном соборе открытым голосованием единогласно. Похоронен под Успенским собором ТСЛ в храме Всех святых, в земле Российской просиявших. ^
- Гурий (Егоров; 1891–1965), архимандрит. Окончил Петровское коммерческое училище в Петербурге, Санкт-Петербургскую ДА (кандидат богословия), в 1915 принял монашество и вскоре был посвящен в сан иеромонаха. С 1917 насельник (казначей) Александро-Невской Лавры, с 1922 архимандрит, с 1925 настоятель Лаврской киновии и заведующий Богословско-пастырским училищем. Первый наместник возрожденной Лавры (1945 — август 1946). С 1946 епископ Ташкентский и Среднеазиатский. С 1952 архиепископ. С 1959 митрополит. Скончался в 1965 в сане митрополита Симферопольского и Крымского. ^
- Загорск. Город Сергиев Посад в 1930–1991 годах носил название Загорск (в честь коммуниста В. М. Загорского). Автор книги, рассказывая о своих поездках в Лавру, не всегда следует хронологии, упоминая оба названия города. В этих местах мы сохранили авторскую редакцию текста. ^
- Флоренский Павел Александрович (1882–1937), священник, профессор МДА, ученый, религиозный философ, богослов. Постоянно служил в домовом храме во имя равноапостольной Марии Магдалины Сергиево-Посадской общины сестер милосердия Красного Креста. В 1918–1920 хранитель Ризницы и ученый секретарь Комиссии по охране памятников искусства и старины ТСЛ. В сочинении "Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи" разрабатывал учение о Софии (Премудрости Божией) как основе осмысленности и целостности мироздания. В работах 1920-х годов стремился к построению "конкретной метафизики" (исследования в области лингвистики и семиотики, искусствознания, философии культа и иконы, математики, экспериментальной и теоретической физики и др.). Репрессирован, погиб в Соловецком лагере особого назначения; реабилитирован посмертно. ^
- Иларион (Удодов; 1863–1951), схиархимандрит. В течение 20 лет подвизался на Афоне, неся послушание кузнеца. Затем оказался в России и из-за революции уже не смог вернуться на Святую Гору. С 1936 до своей кончины был настоятелем подмосковного храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Виноградово, где и погребен. В 1946 при открытии Лавры схиархимандрит Иларион приехал по поручению Святейшего Патриарха Алексия I для передачи главы преподобного Сергия, которая в 1920–1946 тайно хранилась отдельно от святых мощей из-за опасения уничтожения мощей большевиками. См. примеч. № 15. ^
- Иннокентий (Коляда; 1905–1982), иеродиакон. С 1923 послушник на Подворье Валаамского монастыря в Москве. В 1925 пострижен в монашество, в 1926 рукоположен во иеродиакона. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации был в братстве ТСЛ. В 1953 рукоположен в иеромонаха и проходил пастырское служение в Тульской епархии. В 1957–1962 регент и солист хора Троицкого собора Александро-Невской Лавры, затем в братстве Псково-Печерского монастыря до 1971. До 1978 служил на приходах Владимирской и Архангельской епархий. С 1978 за штатом. ^
- Боскин Сергей Михайлович. Художник; регентовал и читал на первых службах открытой Лавры. Впоследствии протодиакон. Автор воспоминаний о Лавре. См. примеч. № 20. ^
- Кронид (Любимов; 1858–1937; память 27 ноября /10 декабря), архимандрит, преподобномученик. Наместник Лавры в 1915–1919. После ее закрытия был оставлен как староста охраны до 26 января 1920. В 1920–1922 жил в с. Братовщина у старосты храма, в 1922–1926 — в Гефсиманском скиту, в 1926–1929 — в Параклитском скиту, в 1929–1937 — у Кокуевского кладбища. Расстрелян в Бутово. Причислен к лику новомучеников Российских в 2000. ^
- По воспоминаниям С.М. Боскина, также бывшего очевидцем и участником всех описываемых событий, антиминс Успенского собора, сохраненный архимандритом Кронидом, передал отцу Гурию Т.Т. Пелих — будущий протоиерей Тихон (1895–1983), который, проживая в Загорске, был духовно близок к преподобномученику Крониду. ^
- Константин Иванович Родионов родился в Ростове Великом, с юности учился звонить на колокольнях Ростова и ТСЛ. ^
- Мария (ок. 1880–1961), схиигумения. В возрасте 16 лет поступила в женский монастырь. В мантию пострижена в 1900 году с именем Арсения во Владимирском монастыре г. Вольска Саратовской губ., где затем была настоятельницей. После октябрьского переворота вместе с несколькими сестрами-послушницами проживала в г. Загорске в небольшом домике. Матушка имела много духовных чад, которые часто приезжали в Загорск, обращаясь к ней за помощью и советом. Ее домик становился приютом для разогнанных из обителей монахинь. Многие отмечали прозорливость матушки и вместе с тем — необычайную простоту и детскую наивность. За советом к ней обращались не только миряне (в том числе и верующая интеллигенция), но и священники, среди которых были и катакомбные, в частности архимандрит Серафим (Батюгов), протоиерей Петр Шипков. О ней см.: Досифея (Вержбловская), мон. О матушке Марии // Василевская В. Я. Катакомбы XX века. Воспоминания. М., 2001. С. 279–306; Басин И. В. Схиигуменья Мария и подпольный женский монастырь // Cristianox. Рига, 1998. Вып. 7. ^
- Гарное масло — так в просторечии называли лампадное масло. ^
Из книги "В Лавре Преподобного Сергия" Пыльнева Галина Александровна
|
o.Павел Груздев - Сказки загадки
Как ты думаешь, почему вода в море соленая?
— Чтобы рыба не испортилась!
И в море не купаются, и нету них щетинки, но все же называются они...
(морские свинки)
Не воин, а со шпорами, не сторожем стоит, а всех рано будит.
(Петух)
Сидит дед Пахом на коне верхом, книги читает, а грамоты не знает.
(Очки)
Носить легко, а считать трудно.
(Волосы)
Что с земли легко поднимешь, а далеко не закинешь?
(Пух)
|

«Когда левиты несли Ковчег Завета, самого Ковчега они не видели. Его покрывали во Святое Святых священники одеждами и ставили на носилки, а левиты несли. Несли Святое Святых не видя, но чувствуя тяжесть на своих плечах. Подобно этому никто не должен исследовать судеб Божиих, достаточно предать себя в Волю Божию, не спрашивая: «Зачем то? Зачем другое?» Довольно для нас того, чтобы быть уверенными, что носимое нами бремя, обвитое покрывалами неисследуемой Воли Божией, для нас – спасительно».
Свт. Иоанн Тобольский
|
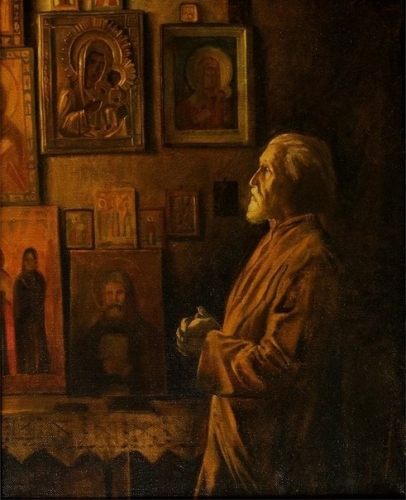
АРХИЕПИСКОП АНАСТАСИЙ (ГРИБАНОВСКИЙ)
второй первоиерарх РПЦЗ
БЕСЕДЫ С СОБСТВЕННЫМ СЕРДЦЕМ
(РАЗМЫШЛЕНИЯ И ЗАМЕТКИ)
***
Тот, кто хочет справедливо относиться к людям, должен оценивать их не столько по отрицательным, сколько по положительным качествам, т.е. не по тому, чего недостает им, а по тому, что они имеют, хотя бы иногда и в незначительной степени.
***
Все люди живут и питаются надеждой, которая есть "бог грядущих дней" по слову поэта. Она одна часто озаряет мрачные дни нашей жизни. Больной надеется выздороветь, старость — помолодеть и окрепнуть, бедняк — освободиться от гнетущих тисков нужды. Каждый утомленный странник этого мира говорит себе: "подожди немного — отдохнешь и ты". Горе тому, в чьем сердце погас этот светильник. Отчаяние равносильно духовной смерти. Ад будет ужасен именно своею безнадежностью.
***
Гораздо легче высокому ростом человеку склониться к маленькому, чем подняться до него последнему. Люди великодушные никогда не забывают этого простого и благородного правила в отношении тех, кто ниже их по своему положению.
***
Скорбь по своей природе глубже радости: она очищает наше духовное зрение и помогает последнему проникать в тайны бытия. Счастье, напротив, легко делает человека надменным и легкомысленным, способным скользить только по поверхности вещей. Потому поэт и говорит: "Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать".
***
Когда мы ходим с высоко поднятой головой и не хотим склонить своей гордой выи сами, Господь по любви к нам смиряет нас рукою крепкою и мышцею высокою.
***
В жизни всегда необходим исповеднический подвиг, требующий деятельной и неутомимой борьбы со злом и мужественной защиты истины. Безмолвствовать при виде оскорбления той или другой нашей святыни — значит уже изменить ей и соучаствовать в этом преступлении. "Ты не участвовал в дерзости виновных", спрашивает Златоуст. "Хвалю это и одобряю, но ты не воспрепятствовал тому, что случилось, и это достойно осуждения. Такие же слова ты услышишь и от Бога, если будешь молчать в то время, когда против Него раздаются хулы и поношения".
***
Кто не спускался в глубину унижения, не сгорал в огне страданий, и не заглядывал в лицо смерти, тот не знает многих тайн бытия, и не уразумел еще истинного смысла собственной жизни.
***
Жемчужины не плавают на поверхности моря; надо опуститься на дно последнего, чтобы достать их. То же можно сказать и о духовных ценностях: они извлекаются из сокровенных глубин нашего существа, из недр той пучины, которая называется человеческою душою.
***
Когда человек воображает себя чем-нибудь, он легко становится ничем; когда он считает себя ничем, делается способным стать всем.
***
Каждому человеку дан свой определенный духовный диапазон, который мы не можем расширить по своей воле. Нельзя поэтому ни от кого требовать больше, чем он может вместить по самой своей природе, и не следует напрасно искать у него тех струн, которые не звучат в его сердце.
|
|
Category:
духовная жизнь
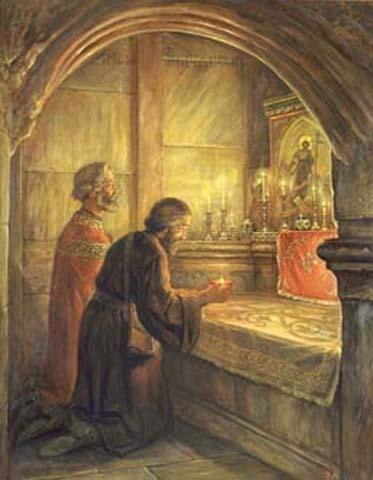
Краткие правила для жизни
1. Благодари Бога за Его благодеяния, за самую жизнь и за спасение от грехов.
2. Заботься иметь душевный мир, а для этого все делай не спеша, с молитвой, как бы в живом присутствии Божием, но говори себе: "Может быть, живу последний день".
3. Всем старайся сказать и сделать что-либо доброе - это будет бальзам для них и на твои раны.
4. Терпи все обиды кротко, не осуждай обидчика, говоря себе: "Это мне за мои грехи прежние".
5. Никогда не унывай, если и погрешишь: Христос пришел ради грешников.
6. Терпи самого себя и свои слабости, не приходи от них в уныние, а смиряйся - Господь любит таких.
7. До конца дней своих считай себя недостойным благодеяний Божиих и даров благодати и на добрые дела свои не засматривайся они от благодати, а не от наших подвигов. Всегда считай себя первым грешником и все спеши к благодати не как достойный ее, а как за лекарством, с чувством глубокого смирения, покаяния и упования на милость Божию. Так великие грешники делались святыми.
8. Грехи и страсти отделяй от себя, отнеси их к демону и борись с ними молитвой, смирением, терпением - получишь мученический венец,
9. Враг наводит на тебя грех через помыслы. Не беседуй с ним и не разбирай помыслов - избежишь и смущения. Беседуй с делами, с людьми, а паче всего с Богом. Сказано: Непрестанно молитесь (1 Фес. 5,17).
10. Всякую печаль и скорбь переводи на молитву и успокаивайся в Боге: Он спасает и прощает тех, кто кается.
Архиепископ Варлаам (Ряшенцев)
|
|
Category:
духовное делание
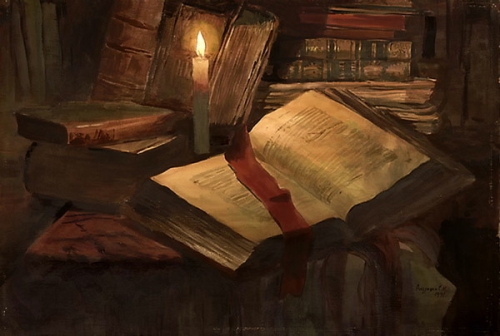
Чтение Жития Святых, Псалтири и вообще книг Божественных самое лучшее средство - лекарство от уныния, душевных скорбей и оружие для борьбы со страстями и помыслами. В предисловии Псалтири говорится: "пение псалмов демоны прогоняет, отженет тьмы, человеку грешному укрепление ума есть... яко вода очищает, яко огнь опаляет, врага постыжает, всякую ярость, гнев, страсть, всяк грех отгоняет, уста очищает", и т. д. И это делает одна Божественная книга! а что сказать про другие, про Евангелие, про Жития Святых? оружие против злых помыслов надежное (Еф.6:17).
МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИР (1873-1959)
ДУХОВНЫЕ ЗЕРНЫШКИ
МЫСЛИ И СОВЕТЫ СВЯТИТЕЛЯ БОЖИЯ
|
|
Category:
духовное делание
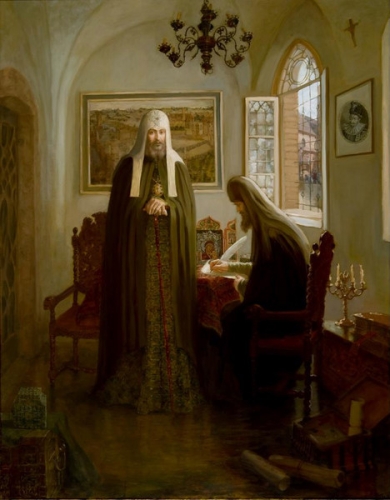
ДУХОВНЫЕ ЗЕРНЫШКИ
Теперь особенно время испытания для всех: воинам - на брани, нам - здесь. Надо подвизаться для очищения, все мы друг за друга виноваты.
Богу видно, когда нам нужны радости, когда - трудности. Крест всегда будет - от одного уйдешь, другой будет.
Страдания, крестный путь, которыми Господь призывает, свидетельствуют об угодности Ему.
Едино Упование наше - Господь Бог: ничто не должно быть выше Его любви. Ценно, если даже своим присутствием можешь кому-нибудь пользу оказать.
Господи, оружие на врага - Крест Твой дал еси нам! Крест - наше утешение, наше исцеление, наша радость, наша слава, наша жизнь и воскресение. Крест - Хранитель всей вселенной!
Христос не сказал нам: "кто хочет по Мне идти, да возьмет Крест Мой", но каждому сказал: "да возьмет крест свой". Терпеливое, безропотное несение своего креста Христос нам вменяет за Свои страдания искупительные.
Продолжай идти своей избранной дорожкой, как бы ни извилиста была. Можно иметь сердце чистое повсюду. Молитву Иисусову читай. Помни княгинюшку Евфросинию: ходила в шелку, а тайно совершала подвиги.
Нужнo нам укрепляться в молитвенном пребывании, чтобы нам быть с Богом, и Господь с нами был.
Ежедневно вспоминай празднуемых святых, молись им, чтоб они тебе помогли, как сами они уж победили свои немощи и достигли совершенства.
Святые - это наши старшие братья!
Преподобный Серафим оставил нам камень, на котором молился тысячу дней и тысячу ночей, также как Илия оставил свою милоть Елисею - в знак духовной с нами связи.
Нам далеко от святости угодников Божиих, но в тех условиях, в каких живем, будем стараться по мере сил возвышаться.
МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИР (1873-1959)
ДУХОВНЫЕ ЗЕРНЫШКИ
МЫСЛИ И СОВЕТЫ СВЯТИТЕЛЯ БОЖИЯ
|
|
|