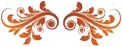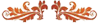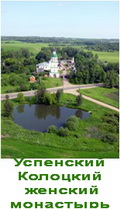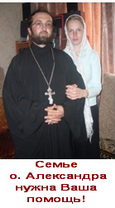–ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Ι–™―Ä–Β―à–Ϋ–Η―Ü–Α  1 –ù–Α―Ä–Ψ–¥ –Κ–Η–Ω–Η―², –≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Β, ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―², –½–≤–Ψ–Ϋ –Μ―é―²–Ϋ–Β–Ι –Η –Κ–Η–Φ–≤–Α–Μ–Ψ–≤ –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²,
–ö―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Η –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨, –Η ―Ü–≤–Β―²―΄,
–‰ –Φ–Β–Ε ―¹―²–Ψ–Μ–±–Ψ–≤, ―É –≤―Ö–Ψ–¥–Α –¥–Ψ–Φ–Α,
–ü–Α―Ä―΅–Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ―΄
–Δ–Β―¹―¨–Φ–Ψ–Ι ―É–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―΄;
–ß–Β―Ä―²–Ψ–≥–Η ―É–±―Ä–Α–Ϋ―΄ –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ,
–£–Β–Ζ–¥–Β –≥–Ψ―Ä–Η―² ―Ö―Ä―É―¹―²–Α–Μ―¨ –Η –Ζ–Μ–Α―²–Ψ,
–£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η―Ü –Η –Κ–Ψ–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ –¥–≤–Ψ―Ä;
–Δ–Β―¹–Ϋ―è―¹―¨ –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ψ–Ι –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι,
–™–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω–Η―Ä―É–Β―² ―à―É–Φ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ―Ä,
–‰–¥–Β―², ―¹–Μ–Η–≤–Α―è―¹―è ―¹ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι,
–‰―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä.
–ù–Η―΅–Β–Φ –±–Β―¹–Β–¥–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Η–Φ–Α,
–û–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²
–û –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Η–≥–Β –†–Η–Φ–Α,
–û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤–Μ–Α―¹―²–≤―É–Β―² –ü–Η–Μ–Α―²,
–û –Η―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ―¨–Β ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Φ,
–Δ–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ–Β, –Φ–Η―Ä–Β, –Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β,
–‰ –Φ―É–Ε–Β ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Φ,
–ß―²–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β.
2
¬Ϊ–¦―é–±–Ψ–≤―¨―é –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β―è,
–ù–Α―Ä–Ψ–¥ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–Ϋ ―É―΅–Η–Μ,
–û–Ϋ –≤―¹–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –€–Ψ–Η―¹–Β―è
–¦―é–±–≤–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―É –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η–Μ;
–ù–Β ―²–Β―Ä–Ω–Η―² –≥–Ϋ–Β–≤–Α –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Η –Φ―â–Β–Ϋ―¨―è,
–û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É–Β―² –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ―¨–Β,
–£–Β–Μ–Η―² –Ζ–Α –Ζ–Μ–Ψ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ;
–ï―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Α―è ―¹–Η–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β–Φ,
–Γ–Μ–Β–Ω―΄–Φ –Ψ–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―² –Ζ―Ä–Β–Ϋ―¨–Β,
–î–Α―Ä–Η―² –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ―¨–Β
–Δ–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –±―΄–Μ –Η ―¹–Μ–Α–± –Η ―Ö―Ä–Ψ–Φ;
–ï–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ,
–Γ–Β―Ä–¥–Β―Ü –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ―¨–Β –Ψ―²–Ω–Β―Ä―²–Ψ,
–ï–≥–Ψ –Ω―΄―²―É―é―â–Β–≥–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Α
–ï―â–Β –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ.
–Π–Β–Μ―è –Ϋ–Β–¥―É–≥, –≤―Ä–Α―΅―É―è –Φ―É–Κ―É,
–£–Β–Ζ–¥–Β ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ,
–‰ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Β―Ä –±–Μ–Α–≥―É―é ―Ä―É–Κ―É,
–‰ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–¥–Η–Μ.
–Δ–Ψ, –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–≥–Ψ–Φ –Φ―É–Ε –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι!
–û–Ϋ ―²–Α–Φ, –Ω–Ψ o–Ϋ–Ω–Ψ–Μ –‰–Ψ―Ä–¥–Α–Ϋ–Α,
–Ξ–Ψ–¥–Η–Μ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–±–Β―¹,
–û–Ϋ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Φ ―¹–≤–Β―Ä―à–Η–Μ ―΅―É–¥–Β―¹,
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ψ–Ϋ, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Ι,
–ù–Α ―ç―²―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―Ä–Β–Κ–Η,
–Δ–Ψ–Μ–Ω–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Ψ–Ι
–½–Α –Ϋ–Η–Φ –Η–¥―É―² ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η¬Μ. 3
–Δ–Α–Κ –≥–Ψ―¹―²–Η, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―è,
–½–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ψ–Ι ―¹–Η–¥―è―²;
–€–Β–Ε –Ϋ–Η–Φ–Η, ―΅–Α―à―É –Ψ―¹―É―à–Α―è,
–Γ–Η–¥–Η―² –±–Μ―É–¥–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è;
–ï–Β –Ω―Ä–Η―΅―É–¥–Μ–Η–≤―΄–Ι –Ϋ–Α―Ä―è–¥
–ù–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β―² –≤–Ζ–Ψ―Ä―΄,
–ï–Β –Ϋ–Β―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―É–±–Ψ―Ä―΄
–û –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²;
–ù–Ψ –¥–Β–≤–Α –Ω–Α–¥―à–Α―è –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α;
–£–Ζ–Η―Ä–Α―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Α–≤―Ä―è–¥
–ü―Ä–Β–¥ ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι
–€―É–Ε–Η –Η ―¹―²–Α―Ä―Ü―΄ ―É―¹―²–Ψ―è―²:
–™–Μ–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Μ–Η–≤―΄ –Η ―¹–Φ–Β–Μ―΄,
–ö–Α–Κ ―¹–Ϋ–Β–≥ –¦–Η–≤–Α–Ϋ–Α, –Ζ―É–±―΄ –±–Β–Μ―΄,
–ö–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Ψ–Ι, ―É–Μ―΄–±–Κ–Α –≥–Ψ―Ä―è―΅–Α;
–£–Κ―Ä―É–≥ ―¹―²–Α–Ϋ–Α –Ω–Α–¥–Α―è ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ,
–Γ–Κ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β ―²–Κ–Α–Ϋ–Η –¥―Ä–Α–Ζ–Ϋ―è―² –Ψ–Κ–Ψ,
–Γ –Ϋ–Α–≥–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Β―΅–Α.
–ï–Β –Η ―¹–Β―Ä―¨–≥–Η –Η –Ζ–Α–Ω―è―¹―²―¨―è,
–½–≤–Β–Ϋ―è, –Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α–Φ ―¹–Μ–Α–¥–Ψ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨―è,
–ö ―É―²–Β―Ö–Α–Φ –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Ψ–≤―É―²,
–ê–Μ–Φ–Α–Ζ―΄ –±–Μ–Β―â―É―² ―²–Α–Φ –Η ―²―É―²,
–‰, ―²–Β–Ϋ―¨ –±―Ä–Ψ―¹–Α―è –Ϋ–Α –Μ–Α–Ϋ–Η―²―΄,
–£–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ–±–Η–Μ–Η–Η –Κ―Ä–Α―¹―΄,
–•–Β–Φ―΅―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Η―²―¨―é –Ω–Β―Ä–Β–≤–Η―²―΄,
–ü–Α–¥―É―² ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à–Ϋ―΄–Β –≤–Μ–Α―¹―΄;
–£ –Ϋ–Β–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η―²,
–Γ―²―΄–¥–Μ–Η–≤–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Ω―΄―Ö–Α–Β―² –Κ―Ä–Ψ–≤―¨,
–ö―É–Ω–Η―²―¨ –Ζ–Α –Ζ–Μ–Α―²–Ψ –≤―¹―è–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ε–Β―²
–ï–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Ϋ―É―é –Μ―é–±–Ψ–≤―¨.
–‰ –≤–Ϋ–Β–Φ–Μ–Β―² –¥–Β–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ,
–‰ –Β–Ι –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–≤―É―΅–Α―² ―É–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Φ;
–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ–±―É–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ι,
–‰ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―¹ ―Ö–≤–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Φ –≤–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ:
¬Ϊ–· –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à―É―¹―¨ –Ϋ–Η―΅―¨–Β–Ι;
–½–Α–Κ–Μ–Α–¥ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β –Μ―¨?
–ü―É―¹–Κ–Α–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –≤–Α―à ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨,
–û–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―²–Η―² –Φ–Ψ–Η―Ö –Ψ―΅–Β–Ι!¬Μ
4
–£–Η–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä―É–Η―²―¹―è, ―à―É–Φ –Η ―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²,
–½–≤–Ψ–Ϋ –Μ―é―²–Ϋ–Β–Ι –Η –Κ–Η–Φ–≤–Α–Μ–Ψ–≤ –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²,
–ö―É―Ä–Β–Ϋ―¨–Β, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Η ―Ü–≤–Β―²―΄;
–‰ –≤–Ψ―² –Κ ―²–Ψ–Μ–Ω–Β, ―à―É–Φ―è―â–Β–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ
–ü–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ―É–Ε –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι;
–ï–≥–Ψ ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―΄–Β ―΅–Β―Ä―²―΄,
–û―¹–Α–Ϋ–Κ–Α, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω―¨ –Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ―¨―è,
–£–Ψ –±–Μ–Β―¹–Κ–Β ―é–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄,
–ü–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Ψ–≥–Ϋ―è –Η –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨―è;
–ï–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–¥
–ù–Β–Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –¥―΄―à–Η―² –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é,
–ö –Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ ―É―²–Β―Ö–Α–Φ –Ϋ–Β―² ―É―΅–Α―¹―²―¨―è,
–‰ –≤–Ζ–Ψ―Ä –≤ –≥―Ä―è–¥―É―â–Β–Β –≥–Μ―è–¥–Η―².
T–Ψ –Φ―É–Ε –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι,
–ü–Β―΅–Α―²―¨ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ,
–û–Ϋ ―¹–≤–Β―²–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –Α―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ –±–Ψ–Ε–Η–Ι,
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―΄–Μ–Α―é―â–Η–Φ –Φ–Β―΅–Ψ–Φ
–£―Ä–Α–≥–Α –≤ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β―à–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Ψ–≤―΄
–û–Ϋ –≥–Ϋ–Α–Μ –Ω–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Η―é –‰–Β–≥–Ψ–≤―΄.
–ù–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Α―è –Ε–Β–Ϋ–Α
–ï–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅―¨–Β–Φ ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ–Α
–‰ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² ―Ä–Ψ–±–Κ–Ψ, –≤–Ζ–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η–≤,
–ù–Ψ, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è ―¹–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ζ–Ψ–≤,
–û–Ϋ–Α ―¹ ―¹–Β–¥–Α–Μ–Η―â–Α –≤―¹―²–Α–Β―²
–‰, ―¹―²–Α–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Η–≤―à–Η –≥–Η–±–Κ–Η–Ι
–‰ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–≤ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥,
–ü―Ä–Η―à–Β–Μ―¨―Ü―É ―¹ –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ―é ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι
–Λ–Η–Α–Μ ―à–Η–Ω―è―â–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Α–Β―².
¬Ϊ–Δ―΄ ―²–Ψ―², ―΅―²–Ψ ―É―΅–Η―² –Ψ―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―¨―é -
–ù–Β –≤–Β―Ä―é ―²–≤–Ψ–Β–Φ―É ―É―΅–Β–Ϋ―¨―é,
–€–Ψ–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι –Η –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι!
–€–Β–Ϋ―è ―¹–Φ―É―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ϋ―΄–Ϋ–Β,
–û–¥–Η–Ϋ ―¹–Κ–Η―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Β,
–£ –Ω–Ψ―¹―²–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―à–Η–Ι ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –¥–Ϋ–Β–Ι!
–¦–Η―à―¨ –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―¨–Β–Φ ―è –≤–Μ–Β–Κ–Ψ–Φ–Α,
–Γ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Α,
–· –≤–Β―Ä―é ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Β,
–Γ–Μ―É–Ε―É –≤–Η–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ―É―è–Φ,
–€–Ψ–Ι –¥―É―Ö ―²–Ψ–±–Ψ―é –Ϋ–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Β–Φ,
–Δ–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Φ–Β―é―¹―¨ ―è ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Β!¬Μ
–‰ ―Ä–Β―΅―¨ –Β–Β –Β―â–Β –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α,
–ï―â–Β ―¹–Φ–Β―è–Μ–Α―¹―è –Ψ–Ϋ–Α,
–‰ –Ω–Β–Ϋ–Α –Μ–Β–≥–Κ–Α―è –≤–Η–Ϋ–Α
–ü–Ψ –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Α–Φ ―Ä―É–Κ –Β–Β –±–Β–Ε–Α–Μ–Α,
–ö–Α–Κ –Ψ–±―â–Η–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –≤–Κ―Ä―É–≥ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ,
–‰ ―¹–Μ―΄―à–Η―² –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ ―¹–Φ―É―â–Β–Ϋ―¨–Β:
¬Ϊ0–Ϋ–Α –Ψ―à–Η–±–Μ–Α―¹―¨, –≤ –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―¨–Β
–ï–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ―¨―Ü–Α –Μ–Η–Κ -
–Δ–Ψ –Ϋ–Β ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Β―é,
–Δ–Ψ –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –Η–Ζ –™–Α–Μ–Η–Μ–Β–Η,
–ï–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ!¬Μ
5
–ù–Β–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±–Η–¥–Α–Φ
–£–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ψ–Ϋ –¥–Β–≤―΄ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι,
–‰ –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ ―¹ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ
–ü–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ ―Ö―Ä–Α–Φ–Η–Ϋ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι.
–£ –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―¨–Β
–£–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α –Ϋ–Β―², –Ϋ–Η –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨―è,
–ù–Ψ –Φ―΄―¹–Μ―¨ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Α―è –Μ–Β–≥–Μ–Α
–ù–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Κ –¥–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Α.
–Δ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ψ―Ä–Μ–Η–Ϋ―΄–Ι,
–ù–Β –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²―¨ –Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹―΄,
–î–Β–Μ―è―²―¹―è –Ϋ–Α –¥–≤–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄
–ï–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Η―¹―²―΄–Β –≤–Μ–Α―¹―΄;
–ü–Ψ–≤–Β―Ä―Ö ―Ö–Η―²–Ψ–Ϋ–Α ―É–Ω–Α–¥–Α―è,
–û–¥–Β–Μ–Α ―Ä–Η–Ζ–Α ―à–Β―Ä―¹―²―è–Ϋ–Α―è
–ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―é ―²–Κ–Α–Ϋ―¨―é ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ―¹―²,
–£ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ―¨―è―Ö ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Β–Ϋ –Ψ–Ϋ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²;
–¦–Ψ–Ε–Α―¹―¨ –≤–Κ―Ä―É–≥ ―É―¹―² –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö,
–Γ–Μ–Β–≥–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Α –±―Ä–Α–¥–Α,
–Δ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ―΅–Β–Ι –±–Μ–Α–≥–Η―Ö –Η ―è―¹–Ϋ―΄―Ö
–ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α.
–‰ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Βc–Μ–Ψ―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ
–ö–Α–Κ –¥―É–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Β ―²–Η―à–Η–Ϋ―΄,
–‰ ―΅―É–¥–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ
–Γ–Β―Ä–¥―Ü–Α –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ―΄.
–½–Α–Φ–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä. –£ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ―¨–Β
–Γ–Η–¥–Η―² –Ϋ–Β–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ―¨–Β,
–Δ―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥―É―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―è.
–‰ –Ψ–Ϋ, –≤ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Φ,
–û–±–≤–Β–Μ ―¹–Η–¥―è―â–Η―Ö ―²–Η―Ö–Η–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Φ
–‰, –≤ –¥–Ψ–Φ –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―è –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥―è,
–ù–Α –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–≤–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι
–û―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Ζ–Ψ―Ä –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι.
6
–‰ –±―΄–Μ ―²–Ψ―² –≤–Ζ–Ψ―Ä –Κ–Α–Κ –Μ―É―΅ –¥–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄,
–‰ –≤―¹–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―è –Β–Φ―É,
–‰ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―¹―É–Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Φ –±–Μ―É–¥–Ϋ–Η―Ü―΄
–û–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―²―¨–Φ―É;
–‰ –≤―¹e, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Φ ―²–Α–Η–Φ–Ψ,
–£ –≥―Ä–Β―Ö–Β ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ,
–£ –Β–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Ϋ–Β―É–Φ–Ψ–Μ–Η–Φ–Ψ
–î–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ψ–Ζ–Α―Ä–Β–Ϋ–Ψ;
–£–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Α –Β–Ι –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Α
–ù–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–≤―è―²–Ψ―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι,
–£―¹―è –Μ–Ψ–Ε―¨ –Β–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ,
–‰ ―É–Ε–Α―¹ –Β―é –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ.
–Θ–Ε–Β –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ―¨―è,
–û–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Α –≤ –Η–Ζ―É–Φ–Μ–Β–Ϋ―¨–Β,
–ö–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Η–Μ
–™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Β–Ι ―â–Β–¥―Ä–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ
–‰ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥ ―¹–≤–Ψ–Ι ―è―¹–Ϋ―΄–Ι
–™―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ –Φ―Ä–Α―΅–Η–Μ–Α –Β–Ε–Β―΅–Α―¹–Ϋ–Ψ;
–‰, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –≥–Ϋ―É―à–Α―è―¹―¨ –Ζ–Μ–Α,
–û–Ϋ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ –≤–Ζ–Ψ―Ä–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ
–‰ –Κ–Α―Ä―É –¥–Ϋ―è–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Φ,
–‰ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Μ–Α.
–‰, ―΅―É―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ,
–ï―â–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Α―¹―¨ –Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–Ϋ.
–û–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–Μ–Β–±–Μ―è―¹―è, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α...
–‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –≤ ―²–Η―à–Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –Ζ–≤–Ψ–Ϋ
–‰–Ζ ―Ä―É–Κ ―É–Ω–Α–≤―à–Β–≥–Ψ ―³–Η–Α–Μ–Α...
–Γ―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–¥–Η ―¹–Μ―΄―à–Β–Ϋ ―¹―²–Ψ–Ϋ,
–ë–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β―² –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Μ–Α–¥–Α―è,
–î―Ä–Ψ–Ε–Α―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Β ―É―¹―²–Α,
–‰ –Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Η―Ü –Ψ–Ϋ–Α, ―Ä―΄–¥–Α―è,
–ü–Β―Ä–Β–¥ ―¹–≤―è―²―΄–Ϋ–Β―é –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α.

|
–ö–Μ―è―²–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ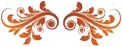 –ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―¹―²–Α―Ä―Ü―É –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–· –Η –±―Ä–Α―² –Φ–Ψ–Ι, –¥―Ä―É–≥ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―¹–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨: –Ϋ–Ψ, –Κ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è, ―Ö–Ψ―²―è ―è –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ι –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨, ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η –Β–≥–Ψ!¬Μ –Γ―²–Α―Ä–Β―Ü ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –¥–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ―¨―Ü–Α –Η, –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–≤ –Κ ―¹–Β–±–Β –±―Ä–Α―²–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –Μ―é–±–≤–Η –Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–ΗβÄΠ –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Α―² ―É–Φ―è–≥―΅–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è, –Η–±–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Μ―è–Μ―¹―è –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Α–Ε–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ¬Μ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü, ―É–Μ―΄–±–Α―è―¹―¨, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É: ¬Ϊ–ö–Μ―è―²–≤–Α ―²–≤–Ψ―è –Η–Φ–Β–Β―² ―²–Α–Κ―É―é ―¹–Η–Μ―É: ―¹–Μ–Α–¥―΅–Α–Ι―à–Η–Ι –‰–Η―¹―É―¹–Β! –½–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α―é ―¹–Β–±―è –Κ―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ –Δ–≤–Ψ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –±―É–¥―É –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Δ–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ι, –Η ―Ö–Ψ―΅―É –Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –≤–Ψ–Μ–Β –≤―Ä–Α–≥–Α –Δ–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Η–Α–≤–Ψ–Μ–Α. –î―Ä―É–≥ –Φ–Ψ–Ι! –ù–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―²―¨ ―²–Ψ, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≤ –Ζ–Μ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ–Α―è―²―¨―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ: –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Α―²―¨―¹―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, –≤ ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –¥―É―à–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η–Μ–Η. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –‰―Ä–Ψ–¥ ―Ä–Α―¹–Κ–Α―è–Μ―¹―è, –Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Μ―è―²–≤–Β, –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –±―΄ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–≤–Β―²–Β –Ζ–Μ–Ψ–¥–Β―è–Ϋ–Η―è: –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―Ä―²–≤–Η–Μ –±―΄ –ü―Ä–Β–¥―²–Β―΅―É –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Α¬Μ. –£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ ―ç―²–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Η–Ζ ―É―¹―² ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α, –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Β―Ü –≤ ―²–Ψ―² –Ε–Β ―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η–Μ―¹―è. (–ü―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –î―¨―è―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –Θ―Ä–Ψ–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄) 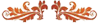 –û–¥–Η–Ϋ –Β–≤―Ä–Β–Ι –Η–Φ–Β–Μ –¥―Ä―É–≥–Α ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, ―É–Β–Ζ–Ε–Α―è –≤ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É, –Ψ–Ϋ –Ψ―²–¥–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –¥―Ä―É–≥―É –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―è―â–Η―΅–Β–Κ ―¹ ―²―΄―¹―è―΅―¨―é –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η–Μ –≤ ―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, ―²–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α –Β–≤―Ä–Β―é –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Ζ―è―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ. –ï–≤―Ä–Β–Ι, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Κ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ψ–Ϋ –Ψ―²–¥–Α–Μ –Β–Φ―É –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ ―²–Ψ―² –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è:
- –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―à―¨ ―É –Φ–Β–Ϋ―è? –Δ―΄ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ –Η ―è –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ –Ψ―² ―²–Β–±―è.
–Θ―¹–Μ―΄―Ö–Α–≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α, –Β–≤―Ä–Β–Ι –Ψ–Ω–Β―΅–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –Η, ―¹―΅–Η―²–Α―è ―¹–≤–Ψ–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η–Φ, ―¹―²–Α–Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É:
- –ë―Ä–Α―², –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―¹–Β–≥–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–≥–Α, –Η –Β―¹–Μ–Η ―²―΄ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―à―¨―¹―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β–±–Β –Ϋ–Α ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è, ―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η ―ç―²–Ψ –Κ–Μ―è―²–≤–Ψ―é. –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –€–Η–Ϋ―΄ –Η ―²–Α–Φ ―²―΄ –Ω–Ψ–Κ–Μ―è–Ϋ–Η―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―è―â–Η–Κ–Α ―¹ ―²―΄―¹―è―΅―¨―é –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄―Ö.
–Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ, –≥–¥–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ –Ω–Ψ–Κ–Μ―è–Μ―¹―è –Β–≤―Ä–Β―é –Ω―Ä–Β–¥ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Μ―è―²–≤―΄, –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄―à–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Η–Ζ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Η –Μ–Η―à―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―¨ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –±–Β―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨; –Ψ–Ϋ, ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–≤ ―¹–≤–Ψ―é ―É–Ζ–¥―É, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≥–Η –Η ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―è, ―¹ ―Ä―É–Κ–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ –Ω–Β―Ä―¹―²–Β–Ϋ―¨, –Α –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –≤―΄–Ω–Α–Μ –Κ–Μ―é―΅. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨, –≤–Ζ―è–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―è, ―É―¹–Φ–Η―Ä–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Η ―¹–Β–≤―à–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Β–≤―Ä–Β–Β–Φ. –ü―Ä–Ψ–Β―Ö–Α–≤ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–≤―Ä–Β―é:
- –î―Ä―É–≥, –≤–Ψ―² ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, ―¹–Μ–Β–Ζ–Β–Φ ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–Β–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Β―¹―²―¨ ―Ö–Μ–Β–±–Α.
–Γ–Ψ–Ι–¥―è ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–Β–Ι, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –Η―Ö –Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨, –Α ―¹–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Β―¹―²―¨. –Γ–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ, –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–≤, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Α ―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η –Η –¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Β ―è―â–Η–Κ –Β–≤―Ä–Β―è, –Α –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, ―É–Ω–Α–≤―à–Η–Ι ―¹ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Η, –Ω–Β―Ä―¹―²–Β–Ϋ―¨. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ ―¹–Η–Β, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ ―É–Ε–Α―¹ –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―Ä–Α–±–Α:
- –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²?
–†–Α–± –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Β–Φ―É:
- –ù–Β–Κ–Η–Ι –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –Κ –Φ–Ψ–Β–Ι –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–Ε–Β, –Η –¥–Α–≤ –Β–Ι –Κ–Μ―é―΅ ―¹ –Ω–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Β–Φ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: –Ω–Ψ―à–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β ―è―â–Η–Κ –Β–≤―Ä–Β―è, –¥–Α–±―΄ ―¹ ―²–≤–Ψ–Η–Φ –Φ―É–Ε–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±–Β–¥―΄. –‰ –Φ–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Ψ ―¹–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―²–Η –Κ ―²–Β–±–Β, –Κ–Α–Κ ―²―΄ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ.
–£–Η–¥―è ―ç―²–Ψ, –Β–≤―Ä–Β–Ι ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è ―¹–Β–Φ―É ―΅―É–¥―É –Η –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Κ ―Ö―Ä–Α–Φ―É ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –€–Η–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –¥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Β–≤―Ä–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, ―É–≤–Β―Ä–Ψ–≤–Α–≤ ―Ä–Α–¥–Η ―¹–Β–≥–Ψ ―΅―É–¥–Α, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ, –Α ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹–≤―è―²–Ψ–Φ―É –€–Η–Ϋ–Β –¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Β–Μ–Η–Κ―É –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨. –û–±–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é - –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–≤―è―²–Ψ–Β –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α, –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Κ ―¹–Β–±–Β, ―Ä–Α–¥―É―è―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―è―è –ë–Ψ–≥–Α –Η –≤–Β–Μ–Η―΅–Α―è –ï–≥–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –€–Η–Ϋ―É.
(–Γ―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –€–Η–Ϋ―΄) 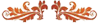 –î–≤–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α βÄî –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –Η –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι βÄî –Η–Ζ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ö–Η–Β–≤–Α –¥―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –≤ –ü–Β―΅–Β―Ä―¹–Κ―É―é ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é, –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹–≤–Β―², ―è―Ä―΅–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α ―΅―É–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Β –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄ –Η –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ. –Γ–Ω―É―¹―²―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Μ–Β–Μ―¹―è –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ, –Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –½–Α―Ö–Α―Ä–Η―è. –£–Ψ―² –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Α –Η –Ψ―²–¥–Α–Μ –Β–Φ―É –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―΅–Η –Φ–Α–Μ–Ψ–Η–Φ―É―â–Η–Φ, –Α ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―é―é ―΅–Α―¹―²―¨, ―²―΄―¹―è―΅―É –≥―Ä–Η–≤–Β–Ϋ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Α –Η ―¹―²–Ψ –≥―Ä–Η–≤–Β–Ϋ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α, –¥–Α–Μ –Γ–Β―Ä–≥–Η―é, –¥–Α –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ, –½–Α―Ö–Α―Ä–Η―é, –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥―Ä―É–≥―É, –Κ–Α–Κ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –±―Ä–Α―²―É, –Η –Ζ–Α–≤–Β―â–Α–Μ: βÄ€–ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹―΄–Ϋ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É–Ε–Α–Β―², –Ψ―²–¥–Α–Ι –Β–Φ―É –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ –Η ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–ΨβÄù. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –½–Α―Ö–Α―Ä–Η–Η 15 –Μ–Β―², –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ψ–Ϋ –≤–Ζ―è―²―¨ ―É –Γ–Β―Ä–≥–Η―è –Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Ψ. –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι –Ε–Β, ―É―è–Ζ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–Α–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ, –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹ –¥―É―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥―É–±–Η―²―¨. –û–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―é–Ϋ–Ψ―à–Β: βÄ€–û―²–Β―Ü ―²–≤–Ψ–Ι –≤―¹–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ –ë–Ψ–≥―É. –Θ –ù–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α –Η ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Α: –û–Ϋ ―²–Β–±–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ω–Ψ–Φ–Η–Μ―É–Β―². –ê ―è –Ϋ–Η ―²–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ψ―²―Ü―É, –Ϋ–Η ―²–Β–±–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Μ–Α―²–Ϋ–Η―Ü―΄. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –±–Β–Ζ―É–Φ–Η–Β–Φ! –£―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ –≤ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―é, –Α ―²–Β–±―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Η―â–Η–Φ –Η ―É–±–Ψ–≥–Η–ΦβÄù. –£―΄―¹–Μ―É―à–Α–≤ ―ç―²–Ψ, ―é–Ϋ–Ψ―à–Α –Ζ–Α―²―É–Ε–Η–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η–Η –Η ―¹―²–Α–Μ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨ –Γ–Β―Ä–≥–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Ψ―² ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É –Ψ―²–¥–Α–Μ –Β–Φ―É, –Α –¥―Ä―É–≥―É―é –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –±―΄ ―¹–Β–±–Β. –Γ–Β―Ä–≥–Η–Ι –Ε–Β –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η ―É–Κ–Ψ―Ä―è–Μ –Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –Η –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ. –½–Α―Ö–Α―Ä–Η―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η, –¥–Α–Ε–Β –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Ι. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤–Η–¥―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Μ–Η―à–Β–Ϋ –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Γ–Β―Ä–≥–Η―é: βÄ€–ü―Ä–Η–¥–Η –Ω–Ψ–Κ–Μ―è–Ϋ–Η―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –≤ –ü–Β―΅–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―΅―É–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―΄ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±―Ä–Α―²–Α–Μ–Η―¹―¨βÄù. –Δ–Ψ―² –Ω–Ψ–Κ–Μ―è–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ ―²―΄―¹―è―΅–Η –≥―Ä–Η–≤–Β–Ϋ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Α –Η ―¹―²–Α –≥―Ä–Η–≤–Β–Ϋ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α, ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η–Κ–Ψ–Ϋ―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Ι. –ü–Ψ―à–Β–Μ –Κ –¥–≤–Β―Ä–Η –Η –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹―²–Α–Μ –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨: βÄ€–Γ–≤―è―²―΄–Β –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ι –Η –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η–Ι! –ù–Β –≤–Β–Μ–Η―²–Β ―É–±–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Ψ–Φ―É –Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–Β―¹―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–Ε–Β –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –û–Ϋ–Α –Ψ―²–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Α –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Β―¹–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―è –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ. –ü―É―¹―²―¨ –±–Β―Ä―É―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ –Η ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ: –Ψ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Κ–Μ–Β―²–ΗβÄù. –‰ ―¹―²―Ä–Α―Ö –Ϋ–Α–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η –Κ–Μ―è―¹―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Ψ–Ι –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Α–Μ–Η –≤ –¥–Ψ–Φ –Κ –Γ–Β―Ä–≥–Η―é, –≤–Ζ―è–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―É–¥ –Η –Ϋ–Α―à–Μ–Η –≤ –Ϋ–Β–Φ –¥–≤–Β ―²―΄―¹―è―΅–Η –≥―Ä–Η–≤–Β–Ϋ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Α –Η –¥–≤–Β―¹―²–Η βÄî –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α: ―²–Α–Κ ―É–¥–≤–Ψ–Η–Μ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―è–Φ. –½–Α―Ö–Α―Ä–Η―è –Ε–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ –≤―¹–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ―É –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η–Μ –Η―Ö –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―é, ―¹–Α–Φ –Ε–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Η–≥―¹―è –≤ –ü–Β―΅–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β, –≥–¥–Β –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.
(–€. –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α. –ö–Η–Β–≤–Ψ-–ü–Β―΅–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α―²–Β―Ä–Η–Κ)
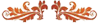 –Γ–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι:
"–ö―²–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Κ–Μ―è―²–≤–Ψ―é –Ϋ–Α –Ζ–Μ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―²–Ψ―² –Ω―É―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β―² –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―²―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Κ–Μ―è―²–≤–Β, –Ϋ–Ψ –¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ―É–Κ–Α–≤―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ–¥ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Μ―è―²–≤―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ –‰―Ä–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²―¨ –Κ–Μ―è―²–≤―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ―¹―è ―É–±–Η–Ι―Ü–Β―é –ü―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α. –ö–Μ―è―²–≤–Α –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Β―²―¹―è, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Μ―è―²–≤–Α, –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ –Ζ–Μ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–ΒβÄù. (–Δ–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ–Φ 7, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ 29)
–Γ–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ü–Α–Μ–Α–Φ–Α:
–ö–Μ―è―²–≤–Ψ–Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β―¹―²―¨ –Ψ―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Η –±–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Η–Ζ–±–Β–≥–Α–Ι –±–Ψ–Ε–±―΄, –±–Ψ―è―¹―¨ –Κ–Α–Κ –±―΄ ―Ä–Α–¥–Η –Β–Β –Ϋ–Β –≤–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –Κ–Μ―è―²–≤–Ψ–Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α –Ψ―²―΅―É–Ε–¥–Α―é―â–Β–Β –Η –Κ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ―è―é―â–Β–Β. –ù–Ψ –±―É–¥―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―à―¨ –Η–Φ ―΅―Ä–Β–Ζ ―²–Ψ ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Μ―è―²–≤―΄. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è ―²–Β–±–Β –±–Β–Ζ –Ϋ―É–Ε–¥―΄ ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Κ–Μ―è―²–≤–Ψ―é, ―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –≤ ―΅–Β–Φ-–Μ–Η–±–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –¥–Β–Μ–Α–Ι ―²–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ; –Α –≤–Η–Ϋ―É ―¹–≤–Ψ―é, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ, –Ψ―΅–Η―¹―²–Η –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ–Β―é, –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Ψ―é, –Ω–Μ–Α―΅–Β–Φ –Η ―²–Β–Μ–Α –Ψ–Ζ–Μ–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―É–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Μ―è―è ―²–Β–Φ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, ―Ä–Β–Κ―à–Β–≥–Ψ: ¬Ϊ–Ϋ–Β –Κ–Μ―è–Ϋ–Η―¹―¨¬Μ... –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β ―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –≤ ―΅–Β–Φ-–Μ–Η–±–Ψ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, ―²–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η, –Η–Ζ-–Ζ–Α –±–Ψ–Ε–±―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι (–Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ι) –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Ι –¥–Β–Μ–Α –±–Β–Ζ–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ―É –Κ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ―É–±–Η–Ι―Ü–Β –‰―Ä–Ψ–¥―É. –ù–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤―¨ ―ç―²―É –±–Β–Ζ–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Μ―è―²–≤―É –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―é, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Β –±–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –Η –Ϋ–Β –Κ–Μ―è―¹―²―¨―¹―è –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Α, ―¹–Ω–Β―à–Α ―É–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Η―²―¨ –ë–Ψ–≥–Α, –Ω―Ä–Η–±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ –≤―΄―à–Β―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤―Ä–Α―΅–Β–≤―¹―²–≤–Α–Φ–Η. (–Γ–≤. –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ü–Α–Μ–Α–Φ–Α. –î–Β―¹―è―²–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β –Ω–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é)
|
–û–±–Β―², –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ë–Ψ–≥―É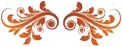 –•–Η―²–Η–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è, –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Α –ü–Β―΅–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤―É–Β―²:
¬Ϊ–£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –±–Ψ―è―Ä–Η–Ϋ –Κ–Ϋ―è–Ζ―è –‰–Ζ―è―¹–Μ–Α–≤–Α, –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ―É–¥–Η―¹–Μ–Α–≤ –™–Β–Η–Β–≤–Η―΅, –≤ ―¹–≤―è―²–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η - –ö–Μ–Η–Φ–Β–Ϋ―², –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è―¹―¨ ―¹ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ϋ―è–Ζ–Β–Φ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –¥–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β: "–ï―¹–Μ–Η –ë–Ψ–≥ ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, ―²–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤―É―é –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η–Β–≤–Α-–ü–Β―΅–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –¥–≤–Β –≥―Ä–Η–≤–Ϋ―΄ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α, –Α –¥–Μ―è –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―é –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –≤–Β–Ϋ–Β―Ü".
–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ω–Α–Μ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –±–Η―²–≤–Β, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –≤―Ä–Α–≥–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ―΄. –ë–Ψ―è―Ä–Η–Ϋ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–≤―Ä–Β–¥–Η–Φ―΄–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Μ―è –±–Η―²–≤―΄, –Ζ–Α–±―΄–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Η.
–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Ψ–Ϋ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, –Κ–Α–Κ –≤–¥―Ä―É–≥ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±―É–¥–Η–Μ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η:
- –ö–Μ–Η–Φ–Β–Ϋ―²!
–ü―Ä–Ψ–±―É–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ―é –Η–Κ–Ψ–Ϋ―É –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è, –Η ―É―¹–Μ―΄―Ö–Α–Μ –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι –Ψ―² –Ϋ–Β–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹:
- –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É, –ö–Μ–Η–Φ–Β–Ϋ―², ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –€–Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Β―â–Α–Μ; –≤–Ψ―² –· –Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²–Β–±–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ; –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α–Ι―¹―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β.
–ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ ―ç―²–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Α ―²–Ψ―²―΅–Α―¹ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –Η–Ζ –≥–Μ–Α–Ζ –±–Ψ―è―Ä–Η–Ϋ–Α. –ë–Ψ―è―Ä–Η–Ϋ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω―É–≥–Α–Μ―¹―è –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±–Β―â–Α–Μ―¹―è, –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –≤–Β–Ϋ–Β―Ü –¥–Μ―è ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è –Η–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ε–Β –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Η –Ψ―²–¥–Α–Μ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Φ―É –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―é¬Μ.
–€―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –¥–Α―ë–Φ –Ψ–±–Β―²―΄ –ë–Ψ–≥―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É–Β―², –Φ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Η–Φ –Η―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨. –î–Α, –ë–Ψ–≥, –≤―¹―ë ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Η–Ι –Η –≤―¹–Β–Φ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Ι, –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –û–Ϋ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄, –Κ–Α–Κ –ï–≥–Ψ ―΅–Α–¥–Α, –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄. –ù–Ψ –Κ–Α–Κ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨ ―É –Μ–Ε–Β―Ü–Α –Η –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Α? –ê ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–±–Β―²–Ψ–≤, –Η –Β―¹―²―¨ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ, –Η –Μ–Ε–Β―Ü, –Η –≤–Ψ―Ä. –£–Β–¥―¨ –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ―É―é –≤–Β―â―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ –Β―ë, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Μ–Α–¥–Β–Β―² –Β―é –±–Β–Ζ–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ - –Ψ–Ϋ–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Β–≥–Ψ. –‰ –Β―¹–Μ–Η –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É―²―¨ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ, ―²–Ψ –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –≥―Ä–Β―Ö βÄ™ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É―²―¨ –ë–Ψ–≥–Α!
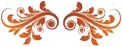
|
–î–Α–Ι –Φ–Ϋ–Β, –ë–Ψ–Ε–Β, ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β
–Γ―΅–Α―¹―²―¨―è –Η –Μ―é–±–≤–Η.
–‰ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö ―²–Ψ–Ε–Β,
–ß―²–Ψ–± –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Μ–Η.
–¦―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ϋ–Α―¹―²–Β–Ε―¨ –Ψ–Κ–Ϋ–Α
–û―²–≤–Ψ―Ä―é –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨,
–Θ–Μ―΄–±–Ϋ―É―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–±–Α –Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄
–‰ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –≥―Ä―É―¹―²―¨.
–Θ–Μ―΄–±–Ϋ―É―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–±–Α –Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄
–‰ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –≥―Ä―É―¹―²―¨.
–î–Α–Ι –Ϋ–Α–Φ, –ë–Ψ–Ε–Β, –±―΄―²―¨ –Φ―É–¥―Ä–Β–Β
–‰ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –±―΄―²―¨.
–î–Α–Ι –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É –±―΄―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Β–Β,
–ù–Α―É―΅–Η –Μ―é–±–Η―²―¨.
–¦―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ϋ–Α―¹―²–Β–Ε―¨ –Ψ–Κ–Ϋ–Α
–û―²–≤–Ψ―Ä―é –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨,
–Θ–Μ―΄–±–Ϋ―É―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–±–Α –Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄
–‰ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –≥―Ä―É―¹―²―¨.
–Θ–Μ―΄–±–Ϋ―É―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–±–Α –Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄
–‰ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –≥―Ä―É―¹―²―¨.
–¦―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ϋ–Α―¹―²–Β–Ε―¨ –Ψ–Κ–Ϋ–Α
–û―²–≤–Ψ―Ä―é –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨,
–Θ–Μ―΄–±–Ϋ―É―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–±–Α –Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄
–‰ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –≥―Ä―É―¹―²―¨.
–î–Α–Ι –Φ–Ϋ–Β, –ë–Ψ–Ε–Β, ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β
–Γ―΅–Α―¹―²―¨―è –Η –Μ―é–±–≤–Η.
–‰ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö ―²–Ψ–Ε–Β,
–ß―²–Ψ–± –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Μ–Η.
–¦―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ϋ–Α―¹―²–Β–Ε―¨ –Ψ–Κ–Ϋ–Α
–û―²–≤–Ψ―Ä―é –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨,
–Θ–Μ―΄–±–Ϋ―É―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–±–Α –Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄
–‰ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –≥―Ä―É―¹―²―¨.
–¦―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ϋ–Α―¹―²–Β–Ε―¨ –Ψ–Κ–Ϋ–Α
–û―²–≤–Ψ―Ä―é –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨,
–Θ–Μ―΄–±–Ϋ―É―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–±–Α –Ζ–≤―ë–Ζ–¥―΄
–‰ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –≥―Ä―É―¹―²―¨.
–‰ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –≥―Ä―É―¹―²―¨.
–‰ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –≥―Ä―É―¹―²―¨.
|
–· –Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨ –Ψ ―²–Β–±–Β, –Φ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι,
–ß―²–Ψ–± ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ ―²–Β–±―è –ë–Ψ–≥ –Ψ―² –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨―è,
–ß―²–Ψ–± ―É–¥–Α―΅–Α ―É–Κ―Ä―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι,
–ù–Β ―Ä–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Α ―΅–Α―¹―²–Η. –· βÄ™ –Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨. –ü―É―¹―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ ―¹–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β―²
–‰ –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―² ―²–Β–±―è –Ψ―² ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η.
–ü―É―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ψ―²–≤–Β–¥―ë―²
–Δ–≤–Ψ–Ι –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ψ―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η. –· –Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨ –Ψ ―²–Β–±–Β, –Φ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι.
–Ξ–Ψ―²―¨ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Η –¥–Α―ë―² –Ϋ–Α–Φ ―É―Ä–Ψ–Κ–Η,
–ù–Ψ –Ω―É―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Η –Η –≤ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥ –Η –Ζ–Ϋ–Ψ–Ι
–ö ―²–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±―É–¥―É―² –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η. –· –Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨ –Ψ ―²–Β–±–Β, –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ.
–Δ―΄ –¥―É―à–Α –Φ–Ψ―è, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö.
–ë–Β–Ζ ―²–Β–±―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤ –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ,
–ë–Β–Ζ ―²–Β–±―è –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö βÄ™ –Ϋ–Β –Ψ―²–¥―΄―Ö. –· –Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨ –Ψ ―²–Β–±–Β. –· βÄ™ –Φ–Ψ–Μ―é―¹―¨βÄΠ
–î–Μ―è ―²–Β–±―è ―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è. –û–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –±–Ψ―é―¹―¨:
–ë–Β–Ζ ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –¥–Α–Ι –ë–Ψ–≥ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è!
–Γ–Μ–Α–≤–Η―è –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ
|
–ü―Ä–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–Ϋ―è, –ë–Ψ–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι
–· ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Μ―é–±–Η–Μ–Α –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β.
–ü―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι -
–£–Β–¥―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Η–Μ–Α –Ψ―²―Ä–Α–≤―É ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι
–Γ–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η, –Κ–Ψ–≥–Ψ ―è –Μ―é–±–Η–Μ–Α.
–ü―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α –±–Β–Ζ–¥―É–Φ–Ϋ–Ψ ―É–±–Η―²―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι,
–Ξ–Ψ―²―¨ –≤–Β–¥–Α–Μ–Α ―è, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–Ϋ―è, –ë–Ψ–Ε–Β, –Φ–Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Β–Ϋ ―²–≤–Ψ–Ι ―¹―É–¥ -
–û–Ϋ –≤―΄―à–Β –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Β.
–€–Β–Ϋ―è –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Η –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹―É―²,
–ù–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β - –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–Ϋ―è, –ë–Ψ–Ε–Β! –ü―Ä–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–Ϋ―è, –ë–Ψ–Ε–Β, –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä,
–ß―²–Ψ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―è –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α,
–‰ ―¹–Μ–Α–≤–Α –Δ–Β–±–Β –Ζ–Α –±–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Δ–≤–Ψ–Ι –¥–Α―Ä -
–½–Α –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ―É―é ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹–Η–Μ―É. –ë―É–¥―¨ ―¹–Μ–Α–≤–Β–Ϋ –Ζ–Α ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β ―²–Ψ ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Ψ,
–ß―²–Ψ –Δ―΄ –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β - ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ―¨–Β,
–½–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Φ–Ψ–Η –¥–Α―Ä―è―² ―²–Β–Ω–Μ–Ψ...
–ë―΄―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Δ―΄ –¥–Α―à―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ―¨–Β, –ö–Α–Κ –¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Η―è–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è,
–€–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ―¨–Β –Ζ–Η–Φ―΄, –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Μ–Β―²–Α...
–½–Α –≤―¹–Β –Δ–Β–±–Β ―¹–Μ–Α–≤–Α, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―É –Φ–Β–Ϋ―è,
–‰ ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ - –Ζ–Α –≤―¹–Β, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―²―É.
–Γ–Μ–Α–≤–Η―è –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ
|
–ê―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –†–Α―³–Α–Η–Μ (–ö–Α―Ä–Β–Μ–Η–Ϋ)–Γ―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Μ–Η "―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨"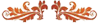
–£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ "―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η", –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι –≤ –Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è―Ö –Η ―¹–Β–Κ―²–Α―Ö, –Κ–Α–Κ –Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β: –≤ ―Ä―É―΅―¨–Β –≤–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω―΄, –≤ ―Ä–Β―΅―É―à–Κ–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ, –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Β - –¥–Ψ –Ω–Μ–Β―΅, –Α –≤ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι - –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι; ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β–Φ –Η –Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β–Φ - ―ç―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Β―² –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Κ–Α.
–Θ―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ "―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η" –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–± –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –≤ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Κ –Α–≥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η―Ü–Η–Ζ–Φ―É –Η ―¹–Κ–Β–Ω―²–Η―Ü–Η–Ζ–Φ―É. "–ß–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨" - –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Α–±―¹―É―Ä–¥–Ψ–Φ. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ - ―ç―²–Ψ –≤–Β―΅–Ϋ–Α―è –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Η–Μ–Α –Η ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―è, –Η―¹―²–Β–Κ–Α―é―â–Α―è –Η–Ζ –Ϋ–Β–¥―Ä –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―É―â–Β―¹―²–≤–Α. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β―²–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Λ–Α–≤–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―¹–≤–Β―², –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ ―è–≤–Η–Μ –Γ–≤–Ψ–Β –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ. –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, ―¹–Μ–Β–¥―É―è ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―è –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –ü–Α–Μ–Α–Φ―΄ –Η –Α―³–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹–Η―Ö–Α―¹―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ ―Ä―è–¥–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ (―¹–Ψ–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –≤ XIV ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η–Η), –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ. –€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –±―΄―²―¨ ―É―â–Β―Ä–±–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ―΄–Φ? –î―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Η ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ϋ–Α –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Α.
–ü–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Η–Ζ–Φ–Α, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Α –Η –Α–¥–Β–Κ–≤–Α―²–Ϋ–Α –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―é, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι, –Α –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ –Φ–Η―Ä―É –Φ–Ψ–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Η –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ "–ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ", –Α ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Μ–Ε–Β–±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è–Φ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η –Ϋ–Β –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ―É―é, –Α –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –Η–Ϋ―É―é - –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –Η―Ö –Κ―É–Μ―¨―²–Α–Φ –Ω―¹–Β–≤–¥–Ψ–±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Η–Μ―É.
–™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η - –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ―É―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β ―¹ –Β―Ä–Β―¹―¨―é –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―² –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è - –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Β―Ä–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤―É–Β―² –Μ―é–¥―è–Φ ―É―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―é ―ç―²–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â–Α―é―²―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, –≤ ―²–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Α –Κ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―é. –ù–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α –Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨? –ï―¹–Μ–Η –¥–Α, ―²–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―²–Α–Κ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ–Α ―¹–Β–±―è –Ψ―² –Β―Ä–Β―¹–Β–Ι? –£–Β–¥―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ "–Β―Ä–Β―¹―¨" –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―²–Β―Ä―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –Ζ–Μ–Ψ–≤–Β―â–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ι "–Η―¹―²–Η–Ϋ―΄ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Α" (–Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄, "–Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–≤–Β–Ε–Β―¹―²–Η", –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Ω–Α―Ö–Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ).
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―É―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –î―É―Ö –Γ–≤―è―²―΄–Ι - ―ç―²–Ψ –î―É―Ö –‰―¹―²–Η–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ε–Η. –ê –Β―Ä–Β―¹―¨ - –Φ–Β―²–Α―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–Ε―¨. –ü―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä: –Β―Ä–Β―²–Η–Κ –ê–Ω–Ψ–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι ―É―΅–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―²–Β–Μ–Ψ –Η –¥―É―à―É, –Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –ï–≥–Ψ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É–Φ. –ù–Α―¹―΅–Β―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Α; –Β―¹–Μ–Η ―É –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Ϋ–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Φ–Α, ―²–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η –Φ–Ψ–Ι ―É–Φ –Ϋ–Β –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ, –Β―¹–Μ–Η –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―è –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ (–Ω–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ).
–ï―Ä–Β―¹―¨ - –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –¥–Ψ–≥–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≥―Ä–Β―Ö, –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Μ–Ψ–Ε―¨ ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Κ–Α, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨―é ―É–Φ–Α, –Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η –¥―É―à–Η - –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –Θ–Φ, –≤–Β―Ä―É―é―â–Η–Ι –≤ –Μ–Ψ–Ε―¨ –Κ–Α–Κ –≤ –Η―¹―²–Η–Ϋ―É, –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Η―²―¹―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η. –Γ–Α–Φ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β - ―ç―²–Ψ ―¹–Η–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η. –û―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Η–Β ―É–Φ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―¹–Η–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ ―É–Φ, –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι, –Α ―ç―²–Α ―¹–Η–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –Μ–Η―à―¨ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η –≤―¹–Β―Ü–Β–Μ–Ψ–Ι –¥–Ψ–≥–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄, –Ω―Ä–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Α –≤ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ―É–Φ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η ("–Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Η–Φ–Β–Β―² ―É–Φ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤" - ―¹–Φ.: 1 –ö–Ψ―Ä. 2, 16). –£–Β―Ä–Α –≤ –Μ–Ψ–Ε―¨ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Β―² ―É–Φ ―¹ –Μ–Ψ–Ε―¨―é, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―² ―¹–Η–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―é ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η. –Γ–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―É–Φ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ù–Α ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²? –ï―¹–Μ–Η –¥―É―à―É –±–Β–Ζ ―É–Φ–Α - ―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –¥―É―à–Η –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―². –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–≤–Μ–Β–Κ–Α―è―¹―¨ –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –±–Β–Ζ―É–Φ–Η–Β –Η ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Β - ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―É–Φ–Α –≤ –¥―É―à–Β, –Α –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –¥―É―à–Ψ–Ι –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Β–Ι (―²–Β–Μ–Ψ–Φ), –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Η ―É―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Η –Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α –Ϋ–Α –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Η―²–Β–Μ–Η, –≥–¥–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―³–Ψ―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ; –±–Β–Ζ―É–Φ–Η–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Ϋ–Β ―É–Φ, –Α ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η - –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―² –¥―É―à–Η.
–†–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –Β―Ä–Β―¹–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨, –Α –Β―Ä–Β―²–Η–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Β–Β, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ―É –Ψ –Μ–Η―¹–Β –Η –Α–Η―¹―²–Β: –Β–¥–Α ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β, –Α –≥–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ.
–‰ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β. –£ –¥–Β–Ϋ―¨ –ü―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Ϋ–Η―Ü―΄ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ (–≤ –Μ–Η―Ü–Β –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤ –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤―΄―Ö) –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α ―²―É –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―É –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –Β–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é –ù–Β–±–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Η –¥–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Δ–Β–Μ–Ψ–Φ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è. –ù–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –≤ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α–Β―², –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α, –Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ–Α –≤–Β―΅–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤–Β―΅–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨―é –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α.
–ï―¹–Μ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Α, –Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Α –Η ―¹–Κ―É–¥–Ϋ–Α, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Η ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Η ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―Ä–Α―è –Η –Α–¥–Α, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Β―². –ï―¹–Μ–Η ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Ω–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Φ―É ―³―Ä–Α–≥–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤―É –Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η–Ι ―¹ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Κ–Α–Κ –Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―ç―³–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α. –Γ–Ψ–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è - –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α, –Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Α–Φ –Ω–Ψ―²–Β–Κ–Μ–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ. –ß–Β–Φ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è –Η ―¹–Β–Κ―²–Α –Ψ―² –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è - ―²–Β–Φ ―Ö―É–Ε–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Κ–Α. –½–¥–Β―¹―¨ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –ë–Ψ–≥ –Κ–Α–Κ –™–Μ–Α–≤–Α –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Η–Ζ –Ε–Η–≤–Ψ–≥–Ψ, –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Μ―É―΅―à–Η–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è―Ö ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ―É –Η―Ö "―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Α" ―¹ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―² –Φ–Η―¹―²–Η–Κ―É –≤ –Φ–Α–≥–Η–Ζ–Φ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ–Α–≥–Η–Ζ–Φ - ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―³–Ψ―Ä–Φ–Β.
–Δ–Β–Ψ―¹–Ψ―³–Η―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Α―è ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η―è –Ϋ–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ι –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι, - ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―É―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α–Β―² ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Η –≤ –Η―Ö –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β. –‰ ―ç–Κ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Ζ–Φ, –±―É–¥―É―΅–Η ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–Φ ―²–Β–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –¥―Ä―É–≥ ―É –¥―Ä―É–≥–Α; –Α –≤ "–Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΅–Α―²–Ψ–Ι" ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Η–Φ–Β―é―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ (–≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –≤ ―ç–Κ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, ―¹―΅–Η―²–Α―é―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β - –≤―΄―¹―à–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α).
–ï―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β–Φ –Η –Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι –Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η, ―²–Ψ –≤―¹―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –¥–Ψ XX –≤–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β, –Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ω–Η―é―â–Η–Ι –≥―Ä–Β―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Μ―é–±–≤–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Α–Ϋ–Α―³–Β–Φ―É –Ϋ–Α –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨? –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β - –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Κ–Α–Κ –Φ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Δ–Β–Μ–Α –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è –Η –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Β–Β –≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Κ–Μ―É–±–Α, –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η–Μ–Η –Α―¹―¹–Ψ―Ü–Η–Α―Ü–Η–Η.
–ï―¹–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è―Ö, ―²–Ψ –Α–Ϋ–Α―³–Β–Φ–Α, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é –Ϋ–Α –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β–Φ–Α―è –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –±―Ä–Α―²–Ψ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –¥―Ä–Β–≤–Ϋ―è―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α–Μ–Α –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –≥–Α–Ϋ–≥―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄? –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –Η–Φ–Β–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Μ―é–±–≤–Η, ―΅–Β–Φ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―¹―²―΄? –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –Μ―é–±–≤–Η –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ –≤–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―Ö (―¹–Φ.: 2 –‰–Ϋ. 10), –Α –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Η –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ–¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Η–Ζ–Φ –Κ –≤–Β―Ä–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–¥ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –Μ―é–±–≤–Η –Ω―Ä―è―΅–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Β –Κ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Β.
–£–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Ι –Η–Ζ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö - –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ι –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι - –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±–Μ–Η―΅–Η―²―¨ –Α―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Β―Ä–Β―¹―¨. –Γ–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ –Ψ―¹–Ψ–±―É―é ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Η –Ϋ–Α I –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Β. –€–Ψ–Ε–Β―²–Β –Μ–Η –≤―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―ç–Κ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Γ–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Η –ê―Ä–Η–Ι, –≤–Ζ―è–≤―à–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―Ä―É–Κ–Η, ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É―é―² ―ç–Κ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Μ–Ψ–Ζ―É–Ϋ–≥–Η –Η –Ζ–Α―è–≤–Μ―è―é―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―², –Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―²?
–ü–Β―Ä–≤–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Β―²―Ä –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Ψ–Ι –≥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Α –£–Ψ–Μ―Ö–≤–Α. –ö–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Α "–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Α―è" –¥―É―à–Α ―ç―É–Φ–Β–Ϋ–Η―¹―²–Α-–Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Α, ―¹ ―É–Φ–Η–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―Ä–Η―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Μ―è―¹–Κ–Α–Φ–Η ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤-―à–Α–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç–Κ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Ψ–≤?!
–ï―¹–Μ–Η –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η, –Α –≤ –Β―Ä–Β―¹–Η ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨, ―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –±!–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Β―² –Α–Ϋ–Α―³–Β–Φ–Β –Φ!–Β–Ϋ―¨―à―É―é. –ê –≤–Β–¥―¨ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Α–Ϋ–Α―³–Β–Φ–Α - ―ç―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Η ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―É–¥–Α.
–½–Α―²–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –≤―¹―²–Α–Β―² –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ - –Ζ–Α―΅–Β–Φ –¥–Α–Ϋ–Α –Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è–Φ "–Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è, ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨": –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è? –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β, ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –±―É–¥–Β―² –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≥–Η–±–Ϋ―É―² ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι "–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨―é". –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Β―² –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –Κ–Α–Κ –Ζ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ε–Β―Ä―²–≤―É –Η–¥–Ψ–Μ–Α–Φ, ―²–Α–Κ –Η –Ζ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –≤ –Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―É–Ϋ–Η–Η. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―², –Κ–Α–Κ―É―é ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η―é –Ω―Ä–Η–Φ–Β―² –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ –Ψ―² –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è, –Η–±–Ψ –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ - –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ; –≤–Β–¥―¨ –≥―Ä–Β―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―Ü―΄ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Β–Ϋ –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―²―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Η–Μ―¹―è –Η–Μ–Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Κ–Α–Μ―΄.
–£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Β―â–Β –Η ―²–Α–Κ: ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ–Η? –ï―¹–Μ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² –≤–Β―Ä―É –≤ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β. –ê –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Φ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –≤ –¥―É―à–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –î―É―Ö–Ψ–Φ –Γ–≤―è―²―΄–Φ, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ζ–Η―²―¹―²–≤–Ψ - –Β―Ä–Β―¹―¨, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α IV –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Β, –Α –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –Β―Ä–Β―¹―¨―é, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ―²–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –†–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α―²–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ. –≠―²–Ψ―² –¥–Ψ–≤–Ψ–¥ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Φ –Ψ―à–Β–Μ–Ψ–Φ–Μ―è―é―â–Η–Φ. –£–Β–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ζ–Φ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –Β―â–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Β, –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Β –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Η. –ê ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Α–Κ "―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Η –‰–Β–≥–Ψ–≤―΄", "–ê―Ä–Φ–Η―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è", –≤ –Φ–Β―²―Ä–Η–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ XIX –≤–Β–Κ, –Α ―¹–Β–Κ―²–Α "–Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ - –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤―²" - –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β XX –≤–Β–Κ–Α - –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Β―Ä–Β―¹–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Η―Ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Α–Ϋ–Α―³–Β–Φ–Β?! –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ –≤ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Γ–Η–Φ–≤–Ψ–Μ –£–Β―Ä―΄ –Κ–Α–Κ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É –¥–Ψ–≥–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α. –Θ–Ε–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Η–Ζ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―¹–Β–±―è –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –ù–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Α―Ö –Η ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η―è―Ö –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Ψ–≤ –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Η–Ζ–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –Μ–Α―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Β―Ä–Β―¹―¨―é –Η –Ω–Α–Ω–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ. (–Γ–Φ., –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –û–Κ―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ–Β –ü–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –ï–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι, –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ 1848 –≥., –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –ü–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Α–Φ–Η –Η –Η―Ö –Γ–Η–Ϋ–Ψ–¥–Α–Φ–Η.)
–€―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–± "–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η" –≤–Μ–Β―΅–Β―² –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–± –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Η (―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―² –Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Η―â–Β, –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é).
–Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―é―²―¹―è –Μ–Η –Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –≤ –Η–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è―Ö? –ï―¹–Μ–Η –¥–Α, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―É–¥―É―² ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α―é―². –ù–Β―É―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―², –Α –Ψ―²–¥–Α–Μ―è–Β―² –Β–≥–Ψ –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―¹―²–Η–Β–Φ –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è.
–ß―²–Ψ –Ε–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –≤ ―ç―²–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è―Ö, –Κ–Α–Κ–Α―è ―¹–Η–Μ–Α? –î―É–Φ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –Δ–Α–Φ –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―è―Ä–Κ–Η–Β ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Η, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β –Φ–Β–¥–Η―²–Α―Ü–Η–Η, –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –¥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ―¹―²–Α–Ζ–Α –Η ―¹―²–Η–≥–Φ–Α―Ü–Η–Η; –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―é―â–Α―è―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –î―É―Ö–Α - –≤―¹–Β –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Ψ –¥―É―à–Ψ–Ι. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―¹–≤―è―²―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Η –≤ ―è–Ζ―΄―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ω–Η―â–Α―Ö, –Η –≤ –Β―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ ―è–Ζ―΄―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η –Β―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Η―²―É–Α–Μ―΄ –Η –Ϋ–Α–Μ–Α–≥–Α―è –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è? –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―è–Ζ―΄―΅–Β―¹―²–≤–Ψ - ―ç―²–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄ - –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è, –Α –Β―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ - –Η–Φ–Η―²–Α―Ü–Η―è –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –≤―¹―è–Κ–Α―è –Η–Φ–Η―²–Α―Ü–Η―è - –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–Ε―¨.
–ö–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤―¹–Β–Φ–Η, –Ψ―²–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² –Ϋ–Β–Β, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι "–Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Φ", –Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ϋ–Β –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ϋ–Β―² –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è. –€–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α ―¹ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Α–Φ–Η - ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―²―É –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι –Η ―²–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Α ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –¦–Ψ–≥–Ψ―¹–Α, –Ζ–Α ―¹–≤–Β―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –€–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α ―¹ –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ - ―ç―²–Ψ –Φ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Δ–Β–Μ–Ψ –ë–Ψ–≥–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è –≤ –¥―É―à–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α; –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η―è―Ö ―ç―²–Ψ―² –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Η―¹–Κ–Α–Ε–Β–Ϋ –Η –Ω–Ψ–¥–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―²–Ψ –Ε–Β –Η–Φ―è.
–£–Β―Ä–Α –≤ ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―¹―¹–Η–Ι –Η–Μ–Η ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –≤ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ "―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ" –Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―ç–Κ–Κ–Μ–Β―¹–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Β–Η–Ζ–Φ.
–ß–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Α―è –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –Γ–Α–Φ―É –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É–±―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ–Η –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ –±―Ä–Α―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―É –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ "–±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Α - ―¹―É–Β―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β". (–Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ "―¹―É–Β―²–Ϋ–Ψ–Β" –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² "–Ω―É―¹―²–Ψ–Β, –±–Β―¹―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –±–Β―¹―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Ψ–Β" –Η –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ―É―é ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β―Ä–Β―¹–Β–Ι –Κ–Α–Κ –Φ–Β―²–Α―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²–Ψ―²―΄.) –Θ–Ε–Β –Ψ―²―Ü―΄ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η: "–ö–Ψ–Φ―É –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β –Φ–Α―²―¨, ―²–Ψ–Φ―É –ë–Ψ–≥ –Ϋ–Β –û―²–Β―Ü".
–£–Β―΅–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ - ―ç―²–Ψ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α. –ö –ë–Ψ–≥―É –û―²―Ü―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –î―É―Ö–Α –Γ–≤―è―²–Α–≥–Ψ.
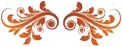 (–‰–Ζ. –Κ–Ϋ.: –ê―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –†–Α―³–Α–Η–Μ (–ö–Α―Ä–Β–Μ–Η–Ϋ). –Δ–Α–Ι–Ϋ–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è.
–ë–Β―¹–Β–¥―΄ –Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η) karelin-r.ru
|
–Γ–Μ―É―΅–Α–Η –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η―è –û–Ω―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –¥–Β―²―è–Φ
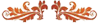 –ê–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Ω. –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η―è –û–Ω―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –®―É―¹―²–Η–Ϋ–Α, –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ
–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ ―²―É–¥–Α, ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ ―¹–Κ–Η―²―É.
βÄΠ–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ψ–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–≤ –Η ―¹―²–Α–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Μ―è―²–Β –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄. βÄî "–≠―²–Η –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Κ–Η - –Φ–Ψ–Η―Ö –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –£–Ψ―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–≤–Α―²-–¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―² –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α –¦. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ –Η –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ! –‰–Ζ―É―΅–Α―è –≤―΄―¹―à–Η–Β –Ϋ–Α―É–Κ–Η, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η –Η―Ö –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―è. –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―Ö–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α –¦–Β–±–Β–¥–Β–≤–Α. –•–Β–Ϋ–Α –¦., ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―è –≤ –Κ–Μ–Η–Ϋ–Η–Κ–Β, –≤–Μ―é–±–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α –Η –±–Β–Ε–Α–Μ–Α –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –¦. –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≥–Ψ―Ä–Β–≤–Α–Μ –Η, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Μ–Β―², –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –Κ –Ϋ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≥–Ψ―Ä―é, –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Φ―É ―¹–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ –≤–Ψ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Μ–Β–≥–Κ–Η―Ö. –Γ–Μ―É―΅–Α–Ι –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι. –· –≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―É–Φ―Ä–Β―², –Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–Φ―É ―É–¥–Α–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ―² –Φ–Η―Ä–Α –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –Θ–Ε–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β. –¦. –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Κ–Η―² –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―ç–Κ–Ζ–Α–Μ―¨―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Α–Φ–Α –Η ―¹―²–Α–Μ–Α –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨: "–î–Α–Ι―²–Β –Φ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α!" –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―΅–Β―², –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ –¦. –· ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Ι, ―΅―²–Ψ –Φ―É–Ε –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–≤. –û–Ϋ–Α ―¹ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η–Ζ―ä―è–≤–Η–Μ–Α –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α. –ù–Ψ ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥ –≤ ―¹–Κ–Η―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Β–Ι –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ –≤–Ψ–Ι―²–Η ―¹―é–¥–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β, –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η. "–· –Η–Ζ―É―΅–Η–Μ–Α –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η –Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι". –û–Ϋ–Α –¥―É–Φ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Β–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ζ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–Β―² –¥–≤–Β―Ä–Η ―¹–Κ–Η―²–Α. –· –Β–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–Ϋ–Α –Η –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² - ―ç―²–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –û–Ϋ–Α –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α: "–™–¥–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―è–Ζ―΄–Κ?" "–ß―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è, - –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β. –≠―²–Ψ –Η –Β―¹―²―¨ ―è–Ζ―΄–Κ –Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι". –û–Ϋ–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Β–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Η ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ε–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η –≤ ―à–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β. –· –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–Β –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Β–Β –±―É–¥–Β―² –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Α, –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Η–Β–¥–Β―² ―¹―é–¥–Α. –û–Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Φ–Β―è–Μ–Α―¹―¨ –Η ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –Η–Ζ –®–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä–Η–Η, –≥–¥–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Α. –ï–Β –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ―É–Ε –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –Β–Ι –Η –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –Β–Β, ―É–≤–Β–¥―è ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Β–Β –¥–Β―²–Β–Ι. –û–Ϋ–Α ―É–Ε–Β, –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―΅–Η―²–Α―²―¨ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β –Η –Ϋ–Α―à–Μ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤. –î–Μ―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Η―Ö ―è –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–Ι –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α―²―¨ –Κ –Ϋ–Α–Φ. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤ –≥–Ψ–¥. –‰ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Β―Ä―É―é―â–Β–Ι, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―è –≤–Η–¥–Β–Μ –Β–Β. –û–Ϋ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Α―²―é―à–Κ–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―É―é, –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Ψ–≥–Η. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–≥–Α―²–Α –Η –≤―¹–Β –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ–Α –±–Β–¥–Ϋ―΄–Φ. –ö–Α–Κ–Α―è –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Ϋ–Β–Ι!" βÄî –€―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Η―Ä–Α ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –±–Β–Ζ―É–Φ–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ.
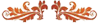
–£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –≤ ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Β
–½–Α–Ω–Η―¹–Η –Γ. –ê. –ù–Η–Μ―É―¹–Α
¬Ϊ–Γ–Β–Ι –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―É, –Ψ―²―΅–Β –Δ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Β!¬Μ βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–Ω. –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Κ―É.
–™–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –û–Ω―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―΄―¹―²―΄–Ϋ–Η. –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―Ü–Β–≤ ―¹ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –û. –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ι ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Ε–Β–Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β:
¬Ϊ–ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è–Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β–Ϋ–Κ–Α –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: βÄî
¬Ϊ–Θ–Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è, –ë–Α―²―é―à–Κ–Α?¬Μ
βÄî ¬Ϊ–™–¥–Β¬Μ βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, βÄî ¬Ϊ–Φ–Α―²―É―à–Κ–Α, –≤―¹–Β―Ö ―É–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨? –Ϋ–Β―² –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α―é¬Μ.
βÄî ¬Ϊ–£―΄ –Φ–Β–Ϋ―è¬Μ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², βÄî ¬Ϊ–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ 1905 –≥. –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Β. –· ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â–Β –±―΄–Μ–Α –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–≤–Η―Ü–Β–Ι, –Η –≤―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ―΅―²–Ψ ―è ―΅–Η―²–Α―é? –ê ―è –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Η ―΅–Η―²–Α–Μ–Α. –· –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Α: –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Α–≥–ΨβÄΠ βÄî –£―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―¨ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α. –ù–Α –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Α―à –Ε–Β―¹―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Η ―è ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α: ―΅―²–ΨβÄ™–Ε –Φ–Ϋ–Β ―΅–Η―²–Α―²―¨? βÄî –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ξ–Η―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Α ―è –Η –Β–≥–Ψ –Η –Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―΅―²–ΨβÄ™–Μ–Η–±–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ, –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α–Μ–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ –Φ–Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² ―¹–Ψ–≤–Β―², ―è –≤–Α–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–≤―΄ –Β―â–Β ―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α–≥–Ψ, ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²–Β –Φ–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―è –Η –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ ―à–Μ–Α¬Μ. βÄî ¬Ϊ–î–Α¬Μ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η –≤―΄ –Φ–Ϋ–Β, βÄî ¬Ϊ–Η–¥–Η―²–Β –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨!¬Μ βÄî –· –Ϋ–Α ―ç―²–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨, βÄî –¥–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Η ―¹ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η. –· ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Κ―²–Ψ –≤―΄ –Η –Κ–Α–Κ –≤–Α―à–Β –Η–Φ―è? –£―΄ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–Φ–Ψ–Β –Η–Φ―è –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–≥―Ä–Α–¥–Β¬Μ. βÄî –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –Μ–Η –≤―΄ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―ç―²―É –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É?¬Μ
βÄî ¬Ϊ–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨¬Μ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, βÄî ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é. –ö–Α–Κ –Ε–Β¬Μ, βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é, βÄî ¬Ϊ―²―΄ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨-―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α?¬Μ
βÄî ¬Ϊ–û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹ –≤–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨, ―è –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Β―è ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―è –Κ―É–Ω–Η–Μ–Α –≤―¹–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ξ–Η―²―Ä–Ψ–≤–Α, ―¹―²–Α–Μ–Α ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –¥–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥ –≤ XβÄΠ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è ―²–Α–Φ ―Ä―è―¹–Ψ―³–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι¬Μ.
βÄî ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ε–Β¬Μ, ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é, βÄî ¬Ϊ―²―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α―à–Μ–Α?¬Μ
βÄî ¬Ϊ–‰ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –· –Ω―Ä–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É ―¹ –≤–Α–Φ–Η –≤―¹–Β ―Ä–Α–Ζ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ―É, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ–Α –≤–Α―à―É –Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Α –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –û–Ω―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ι¬Μ. –£–Ψ―² ―è –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α ―¹―é–¥–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ βÄî –≤―΄ –Μ–Η ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η, –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Κ―²–Ψ? –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤―΄! –£–Ψ―² ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨βÄ™―²–Ψ!¬Μ –‰ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β ―²―É―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Α–≥–Ψ –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―è –Η–Φ –Η–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö―É –ù–Α–¥–Β–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η βÄî –Δ–Η–Φ–Ψ–Ϋ―É:
βÄî ¬Ϊ–Γ–Β–Ι, –Ψ―²―΅–Β –Δ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Β, –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―É ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è, ―¹–Β–Ι –Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Α –Ω–Β―¹―Ü–Β, –Η –Ω―Ä–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Β –Η –Ϋ–Α ―²―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –≤―¹–Β –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ―è–±–Ϋ–Β―² ―¹–Β–Φ―èβÄ™―²–Ψ –≤–Ψ ―¹–Μ–Α–≤―É –ë–Ψ–Ε–Η―é¬Μ. –£–Ψ―² –Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ―è–±–Α–Β―².
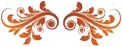 (–‰–≤–Α–Ϋ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤–Η―΅.
–û–Ω―²–Η–Ϋ–Α –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―¨ –Η –Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è)
|
–€–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α –Ζ–Α –Ϋ–Β–Κ―Ä–Β―â―ë–Ϋ―΄―Ö–û –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ―΄, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Κ–Β–Μ–Β–Ι–Ϋ–Ψ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η―Ö –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―é.
–£ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Α―Ö –Ψ –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Η –Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ ―É–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Α―ë–Φ –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Μ–Η―à―¨ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Κ―Ä–Β―â―ë–Ϋ―΄―Ö ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ.
–·–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―² –≤–Β―Ä―΄ –≤ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ–Α―Ö ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –≤ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α―Ö –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α–¥–Α―Ö, –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –±―É–¥–Β―² –Η–Φ –≤ ―¹―É–≥―É–±―΄–Ι –≥―Ä–Β―Ö. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –¦–Β–≤ –û–Ω―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι:
"–ù–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―è–≤–Ϋ–Ψ –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤ –Ϋ–Β―Ä–Α―¹–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Η, –≤ –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Η ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ–Α―Ö; –Ω–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö βÄ™ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Α―¹―²–Η―Ü, –≤―΄–Ϋ―É―²―΄―Ö –Ζ–Α –Η―Ö –Η–Φ–Β–Ϋ–Α, ―¹ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―é –ö―Ä–Ψ–≤–Η―é, βÄ™ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –±―΄–≤–Α–Β―²... –ü–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ–Φ–Η–¥–Η―é –Ψ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η―Ö –≤–Α―à–Η―Ö, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Α–Φ; –Α –Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –Φ–Ψ–Μ–Η―¹―è –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β, –Η –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤―è―²―΄–Φ–Η (–≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―è –¥–Β–Μ–Α–Φ –Η―Ö ―Ö―É–¥―΄–Φ)".
–ê―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ (–ö―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Κ–Η–Ϋ) ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ:
"–ü–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –¦–Η―²―É―Ä–≥–Η―é –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Β―Ä–Β―²–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–≥–Ψ―Ö―É–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –≤―Ä–Α–Ε–¥―É –Κ –ë–Ψ–≥―É".
–û –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β –Ζ–Α ―É–Φ–Β―Ä―à–Η―Ö –Ϋ–Β–Κ―Ä–Β―â―ë–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Α―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –ö―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Κ–Η–Ϋ –Ω–Η―¹–Α–Μ:
"–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è –Ψ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Β 3.!
–ü―Ä–Ψ―¹―²–Η―²–Β, ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Ψ–≥–Α. –ù–Α–Φ –Ε–Β –ë–Ψ–≥ –¥–Α–Μ –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Φ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –‰ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α–Η–≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι - ―ç―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –≤–Ψ–¥―΄ –Η –î―É―Ö–Α.
–€–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ψ –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –£―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α, –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ê –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –±–Μ–Α–≥ –Η –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤, –Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –±–Ψ–Μ―¨―é, –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―² –±–Β–Ζ ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. –€–Α–Μ―é―²–Κ–Α –€. –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η - –Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Α―Ö –Β―¹―²―¨ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Γ–≤―è―²―΄―Ö –Ψ―²―Ü–Ψ–≤, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ –Ϋ–Β–Ι –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Μ–Η –Γ–≤―è―²―΄–Β –û―²―Ü―΄. –ê –Ψ–± –‰. ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤―É–Β―².
–ù–Ψ ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–≥ –¥–Α―¹―². –€–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α –±―É–¥–Β―² –¥–Μ―è –£–Α―¹ ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –Ϋ–Η –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö, –Ϋ–Η –≤ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Β–¥–Α–≤ –Η ―¹–Β–±―è, –Η –¥–Ψ―΅―¨ –≤–Ψ–Μ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι. –ù–Α–Φ –¥–Α–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É –ë–Ψ–≥–Α –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄, –Η ―΅―²–Ψ –û–Ϋ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Β–Ϋ –±–Β―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Θ–Κ―Ä–Β–Ω–Η –£–Α―¹ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –≤ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²–Α.
P.S. –ë–Β–¥–Α-―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―²―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –£―΄ –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –Β―ë –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Ψ–Ϋ–Α - –Ϋ–Β―². –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É-―²–Ψ ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Β―ë, ―è–Κ–Ψ–±―΄, –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é, –Ϋ–Β–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –£ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Η –Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α".
"–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –Ψ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Β –ù. –Η –£.!
–ê –≤–Β–¥―¨ ―è –Ϋ–Β ―É―²–Β―à―É –≤–Α―¹ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –≤–Α–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨. –€–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –£. –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ϋ–Β―² ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α, –¥–Α –Η –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ψ―² –≤–Ψ–¥―΄ –Η –î―É―Ö–Α. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅–Β–Φ –£―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―É―²–Β―à–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è,- ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ―ë–Φ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―é –Η –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α. –î–Α –Β―â―ë –±―É–¥―¨―²–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η - –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –Η –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ.
–ù–Β –Ψ―²–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Ι―²–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –≤–Β–¥―¨ –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Μ―è –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―²―¨. –£–Ψ―² –Η –±―É–¥–Β–Φ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Κ―É".
"–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è –ù.!
–Ξ–Ψ―΅―É ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Β―Ä–Β―΅―¨ ―²–Β–±―è, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ - –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –Ϋ–Β –≤–Ψ―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤ –Φ–Η―Ä –≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±–Μ–Η–Κ–Β, –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –≠―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –€–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η –Ψ–± –Ψ―²―Ü–Β, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η―Ö –≥―Ä–Β―Ö –¥–Β―²–Ψ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α. –£–Ψ―² –Η –Φ–Ψ–Μ–Η―¹―¨ –Η ―²–Β―Ä–Ω–Η –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Β―² ―²–Β–±–Β –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –¥–Μ―è –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥―É―à–Η –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤. –Θ–Φ―É–¥―Ä–Η ―²–Β–±―è –ë–Ψ–≥".
|
–€–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β―¹–Κ–Ψ–Β –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ù–Α ―²―΄―¹―è―΅–Η –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι!
–‰ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –±―΄–≤–Α–Β―²,
–ù–Ψ –¥―Ä―É–Ε–±–Α –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ
–Γ―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―¹ –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ι. –ü―Ä–Η–Ω–Β–≤:
–Θ―Ö–Ψ–¥–Η―² –±―Ä–Η–≥–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Ψ―² –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α!
–€–Ψ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ,
–‰ –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―¹–Ϋ―è, –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ:
¬Ϊ–û–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –≤―¹–Β―Ö –Η –≤―¹–Β –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ!¬Μ –ü–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Φ –≤ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä
–‰ –Ϋ–Α―à –Ϋ–Β–Ω–Ψ–±–Β–¥–Η–Φ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ βÄ™
–ü–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Β –Η –±–Β–Ζ –Κ–Α―Ä―²―΄
–ù–Α–Ι―²–Η –Ϋ–Α –±–Β–Μ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β
–Ξ–Ψ―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―΅―É–¥–Β―¹. –ü―Ä–Η–Ω–Β–≤:
–Θ―Ö–Ψ–¥–Η―² –±―Ä–Η–≥–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Ψ―² –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α!
–€–Ψ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ,
–‰ –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―¹–Ϋ―è, –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ:
¬Ϊ–û–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –≤―¹–Β―Ö –Η –≤―¹–Β –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ!¬Μ –†–Α―¹―¹―²–Α–≤–Η–Φ –≤ ―Ä–Β―³–Β―Ä–Α―²–Α―Ö –Ζ–Α–Ω―è―²―΄–Β,
–€–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤―ë–Φ!
–‰, ―΅―²–Ψ –±―΄ –Ϋ–Η ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨,
–ù–Α ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β
–î―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α βÄ™ –±―É–¥–Β―² –≤―Ä–Β–Φ―è βÄ™ –Ω–Ψ–Ζ–Ψ–≤―ë–Φ! –ü―Ä–Η–Ω–Β–≤:
–Θ―Ö–Ψ–¥–Η―² –±―Ä–Η–≥–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –Ψ―² –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α!
–€–Ψ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ,
–‰ –Ϋ–Α–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Ω–Β―¹–Ϋ―è, –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ:
¬Ϊ–û–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –≤―¹–Β―Ö –Η –≤―¹–Β –Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ!¬Μ –Γ–Μ–Ψ–≤–Α –€. –Δ–Α–Ϋ–Η―΅–Α, –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α –ù. –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.
|
|
|